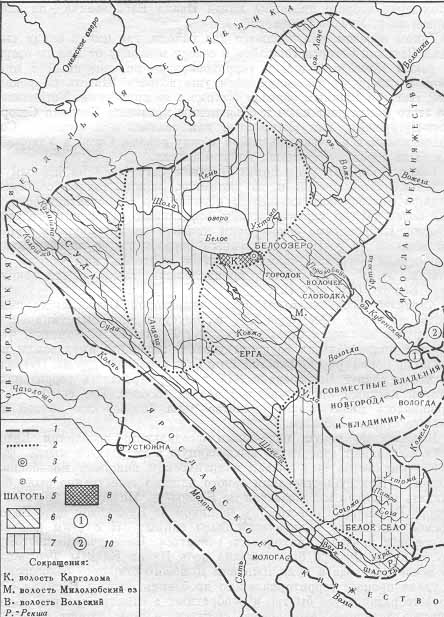|
РусАрх |
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
|
Источник: Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. Все права сохранены.
Размещение электронной версии материала в открытом доступе произведено: http://www.tuad.nsk.ru. Все права сохранены.
Иллюстрации приведены в конце текста.
Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2006 г .
В.А. Кучкин
Формирование государственной территории
северо-восточной Руси в X–XIV вв.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа посвящена истории возникновения и развития государственной территории Северо-Восточной Руси за более чем полутысячелетний период: с момента расселения в Волго-Окском междуречье восточных славян и включения этой территории в состав Древнерусского государства, т.е. с момента сложения здесь государственной территории как таковой, и до объединения в конце XIV в. под властью московского князя Дмитрия Донского ряда крупных княжеств, т.е. создания территориальной основы будущего Русского централизованного государства.
Выбор широких хронологических рамок исследования позволяет выявить важнейшие качественные сдвиги в формировании территории средневековой Руси, а обозрение не отдельной части, но всего географического региона древнерусского Северо-Востока [1] — основные количественные изменения этой территории.
Естественно, что попытка показа зарождения, а затем последующей эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси в течение длительного времени и на обширном пространстве связана с решением многих больших и малых конкретных задач и вопросов, обусловленным как состоянием источниковой базы, так и степенью ее источниковедческого изучения. Однако сколь ни сложны и трудоемки такие решения, достигнутые на их основе конечные результаты не могут быть правильно оценены и интерпретированы без теоретического представления о том, что следует понимать под государственной территорией, как она образуется и как она изменяется.
Хотя указанные проблемы в их общем виде были поставлены давно, но научно решены они только в работах классиков марксизма-ленинизма. Их решение теснейшим образом связано с тем новым учением о государстве, которое было разработано К.Марксом и Ф.Энгельсом и получило дальнейшее развитие в трудах В.И.Ленина.
Как подчеркивал В.И.Ленин, «вопрос о государстве есть один из самых сложных, трудных» [2] в общественных науках. Чтобы ответить на него, необходимо знать, «как государство возникло и как оно развивалось» [3]. Анализируя причины появления государства, эволюцию его форм, классики марксизма-ленинизма обращали внимание на одно из резких, бросающихся в глаза отличий государства от догосударственного, родоплеменного устройства общества. «По сравнению со старой родовой организацией, — писал Ф.Энгельс, — государство отличается, во-первых, разделением подданных государства по территориальным делениям» [4]. Отсюда становится ясно, что изучение государства нельзя вести без изучения его территории, того географического пространства, где государство сложилось, разделив его на различные административные части для властвования над своими подданными. Государственная территория есть, таким образом, продукт возникшего государства. Это наиболее общее определение может быть раскрыто прежде всего на основании характеристики самого государства.
К.Маркс и Ф.Энгельс неоднократно указывали, что государство появляется там, где уже существует раскол общества на антагонистические классы, где происходит классовая борьба, где функционирует публичная власть, защищающая интересы господствующего меньшинства. «Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, — писал Ф.Энгельс, — то оно по общему правилу является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса» [5].
Как же конкретно проявлялась основная задача антагонистического государства — подавлять и эксплуатировать угнетенный класс? На примере древних восточных деспотий этого вопроса касался К. Маркс. Он отмечал, что в древних азиатских государствах «часть прибавочного труда общины принадлежит более высокой общине, существующей, в конечном счете, в виде одного лица, и этот прибавочный труд дает о себе знать как в виде дани и т.п., так и в совместных работах... Общие для всех условия действительного присвоения посредством труда, ирригационные каналы, играющие очень важную роль у азиатских народов, средства сообщения и т.п., представляются в этом случае делом рук более высокого единого начала — деспотического правительства, витающего над мелкими общинами» [6]. Таким образом, из приведенных замечаний К. Маркса следует, что государственная власть проявляет себя по отношению к подвластному населению в безвозмездном присвоении прибавочного труда, отчуждаемого в виде дани и в виде натуральных повинностей, таких, как участие в коллективных строительных работах [7].
Наблюдения К.Маркса были развиты и дополнены Ф.Энгельсом. Он показал, что государство осуществляет свои функции в рамках созданных им различных административных единиц, поскольку разделение населения по территориальному признаку обеспечивало государству как лучшие условия борьбы с прежним родоплеменным устройством общества, так и лучшую организацию угнетения большей части своих подданных, и что исполнение государственных функций берет на себя публичная власть, уже не совпадающая «непосредственно с населением» [8]. «Государство предполагает особую публичную власть, отделенную от всей совокупности постоянно входящих в его состав лиц», — отмечал Ф.Энгельс [9]. И еще: «...существенный признак государства состоит в публичной власти, отделенной от массы народа» [10]. «Эта публичная власть, — резюмировал далее Ф.Энгельс, — существует в каждом государстве. Она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода...» [11]. Публичная власть существует за счет налогов с граждан. «Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся, как органы общества, над обществом» [12]. Особое положение заставляет чиновников ставить себя под охрану «исключительных законов, в силу которых они приобретают особую святость и неприкосновенность» [13]. В других своих работах Ф.Энгельс обращал внимание на сосредоточение в руках государственной власти судебных прерогатив, в том числе права высшего суда [14], и на существование воинской повинности (в пользу государства) рядового населения [15].
Из приведенных высказываний К.Маркса и Ф.Энгельса о внутренних функциях государства вытекает, что по отношению к эксплуатируемому населению эти функции выражаются в:
1. присвоении прибавочного труда в виде готового продукта (в частности, дани), идущего на содержание аппарата власти, и принудительных общественных работ по проведению и строительству дорог, мостов, каналов, крепостей, храмов и т.п.;
2. подчинении разделенного по административно-территориальным единицам населения общим правовым нормам, осуществлении над ним суда и карательных мер, исполняемых особыми органами публичной власти, которые состоят из охраняемых исключительными законами вооруженных людей;
3. организации воинской повинности населения.
Конкретизация внутренних функций государства приобретает принципиальное значение для определения того или иного статуса населенной территории периода образования государства. Если в отношении населения, живущего на какой-либо территории, такие функции проявлялись, эту территорию следует считать государственной. При этом важно иметь в виду замечание В.И.Ленина о том, что подобные внутригосударственные функции должны осуществляться не спорадически, а систематически [16].
Из сказанного, однако, не следует, что государственная территория — это исключительно обжитая территория, население которой имеет определенные обязанности перед государством. Как отмечал Ф.Энгельс, первоначальные общинные права на залегавшие в земле сокровища, полезные ископаемые, леса, различные угодья «впоследствии были узурпированы феодалами и князьями и обращены ими в свою пользу» [17]. Следовательно, господствующий класс распространяет свою власть и на ненаселенные земли, а также реки, озера, горы и т.п.
Исходя из приведенных положений и высказываний К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина о государстве и его территории времени становления классового общества, можно предложить следующее определение государственной территории для указанного периода. Под государственной территорией нужно понимать территорию, представляющую собой собственность организованного в государство эксплуататорского класса, который с помощью своих органов власти устанавливает на данной территории свое административное деление, подчиняет ее население общим публично-правовым нормам, принуждает его к содержанию государственного аппарата, натуральным повинностям и военной службе. Так может быть охарактеризована, в частности, и территория феодального государства, причем не только в момент своего появления, но и в течение длительного периода последующей эволюции. Конечно, дальнейшее развитие государственной территории существенно отличается от ее генезиса. Однако отличия эти не носят принципиального характера.
Основные направления развития государственной территории после ее становления также были намечены классиками марксизма-ленинизма.
Указывая на сохранение территорий старых марок «при возникновении административного деления Франкского государства» в качестве новых судебных округов, Ф.Энгельс вместе с тем констатировал, что «вскоре после этого началось раздробление старых крупных марок» [18]. Уже из этих слов становится ясно, что, раз возникнув, административное деление государственной территории не оставалось постоянным, оно изменялось в последующее время. Причины территориально-административных преобразований Ф.Энгельс усматривал в социальных сдвигах общества. Отмечая, что с течением времени в средневековой Европе появился «зародыш территориального верховенства будущих территориальных князей, происшедших из графов отдельных округов», Ф.Энгельс объяснял это эволюцией бенефициальной системы (наследственностью бенефициев) и изменением системы управления округами (переходом по наследству графских должностей) [19]. Появление территориальных князей, служащее ярким признаком феодальной раздробленности, влекло за собой перекройку ранее относительно единой государственной территории. Наоборот, в период становления национальных государств в Европе происходила консолидация государственной территории, уничтожение и преобразование существовавших ранее политико-административных единиц. Последнее вытекает из замечания Ф.Энгельса о подчинении удельных князей центральной власти в России XV в. [20]
Изложенные взгляды Ф.Энгельса позволяют обрисовать внутренние качественные изменения, которые претерпевала государственная территория в процессе своей эволюции, по крайней мере в рамках феодализма. Они заключались в модификациях административного деления, связанных на первых порах с дальнейшим укреплением государственной власти, а затем с такими явлениями, как феодальная раздробленность и образование национальных государств.
Ф.Энгельс останавливался и на другой стороне развития государственной территории. Анализируя судьбы общинного (маркового) строя в Западной Европе, Ф.Энгельс обращал внимание на «продолжавшиеся без конца внутренние и внешние войны, неизменным последствием которых были конфискации земель...» [21]. А в наброске «О разложении феодализма и возникновении национальных государств» Ф.Энгельс уже прямо подчеркивал, что завоевательные походы при феодализме «имели целью приобретение земель» [22]. Таким образом, по крайней мере в феодальную эпоху, государственная территория различных стран не могла оставаться постоянной, она то расширялась, то сужалась в зависимости от результатов «вечных войн королей и междоусобиц знати» [23]. Иными словами, она менялась в количественном отношении, и это составляло одну из существенных сторон процесса развития государственной территории в то время.
* * *
Указанные К.Марксом, Ф.Энгельсом и В.И.Лениным основные критерии, характеризующие государственную территорию, приложимы, естественно, и к территории феодальной Северо-Восточной Руси. Территория эта служила объектом изучения для целой плеяды ученых. Если продолжительное время относительно природы государственной территории в русской историографии господствовали ненаучные взгляды, непонимание или отрицание классовой природы государства приводило дворянских и буржуазных исследователей XVIII — начала XX в. к ошибочным суждениям о государственной территории [24], то накопление и изучение конкретного материала шло успешнее.
Уже в XVIII в. проявился несомненный интерес историков к вопросам образования территории и географии древних поселений Северо-Восточной Руси. В.Н.Татищев в своем труде «История Российская» посвятил этим сюжетам две специальные главы: «О географии вобсче и о руской» и «Древнее разделение Руссии» [25]. От В.Н.Татищева не ускользнула динамика изменений территории Северо-Восточной Руси. Он указал на переносы ее столицы, на древнейшие формировавшиеся в ее пределах княжества, старался определить их более поздние уделы, наметить общие региональные границы [26]. В основе татищевских разысканий лежали данные русских летописей, содержащих, вообще говоря, мало материала по указанным темам. Вследствие этого, а также в результате не всегда внимательного сопоставления летописных известий В.Н.Татищев допустил ряд неточностей и ошибок, полагая, в частности, что Белоозеро долгое время входило в состав так называемой Великой Руси (по современным понятиям — Новгородской земли), а все остальные центры древней Ростовской земли — в «Русь Белую» [27]; что Галич и Кострома в административном отношении первоначально подчинялись Ростову, Верея — Суздалю, а Старица — Москве [28]. Важны, однако, не эти упущения, хотя, конечно, о них нужно говорить, а сама попытка первого русского историка представить складывание территории Русского государства в развитии.
Свою лепту в изучение названных проблем внес другой известный русский историк XVIII в. — М.М.Щербатов. Во-первых, он дал более точный, чем В.Н.Татищев, перечень русских княжеств, в том числе северо-восточных, существовавших во второй трети XIII — 50-х годах XIV в. [29] Во-вторых, в приложениях к своему труду он поместил выдержки из духовных и договорных грамот московских великих князей, содержавших уникальные перечня волостей и сел Московского и некоторых соседних с ним княжеств [30]. Хотя многие географические названия М.М.Щербатов прочел неправильно [31] и не стремился определить местоположения волостей и поселений XIV в., тем не менее введение в научный оборот новых ценных историко-географических материалов было его несомненной заслугой.
Определенное внимание проблеме формирования государственной территории уделил Н.М.Карамзин. Его воззрения стали итогом изучения этой проблемы в дворянской историографии. По представлению Н.М.Карамзина, территория древнего государства Российского сложилась в первое столетие его существования в результате завоевательных походов Олега, Святослава и Владимира [32]. Уже тогда «к Северу и Востоку граничила она с Финляндиею и с Чудскими народами, обитателями нынешних губерний Архангельской, Вологодской, Вятской, также с Мордвою и с Казанскими Болгарами» [33], т.е. в исследуемом регионе уже к концу Х в. достигла, согласно Н.М.Карамзину, по существу, пределов XIV—XV вв. Н.М.Карамзин полагал также, что «вся земля Русская была, так сказать, законною собственностью великих князей; они могли, кому хотели, раздавать города и волости... Великий князь как государь располагал... частными княжествами» [34]. Появление уделов, следовательно и дробление территории, Н.М.Карамзин объяснял заботой великих князей о будущем своих сыновей: «Здравая Политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской, которое обратилось в несчастное обыкновение» [35]. Поскольку только в единодержавии Н.М.Карамзин видел единственное поступательное начало русской истории [36], деление государства и его территории на уделы он расценивал как причину «всех бедствий России» [37], когда после Ярослава Мудрого «государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трех сот лет» [38]. На Северо-Востоке это «ослабление и разрушение» сдерживалось великими князьями, которые продолжали иметь права на земли «частных» княжеств. Ярким их представителем был Иван Калита, который «старался присвоить себе верховную власть над князьями древних уделов Владимирских... начал смелее повелевать князьями... предписывал им законы в собственных их областях» [39].
При таком понимании русского исторического процесса, понимании, шедшем вразрез с конкретным материалом, ликвидацию уделов и консолидацию территории под властью одного князя можно было объяснить лишь субъективными желаниями этого князя, в лучшем случае — поддержкой его объединительных усилий мудрыми советниками-боярами. Подобного рода объяснения и давал Н.М.Карамзин в своем труде: «Мысль великого князя (речь идет о 13-летнем Дмитрии Московском. — В.К.) или умных бояр его мало помалу искоренить систему уделов, оказалась ясно...», другие князья были изумлены «решительною волею отрока господствовать единодержавно...»; «природа одарила внука Калитина важными достоинствами; но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и Государство успело бы между тем погибнуть, если бы Провидение не даровало Димитрию пестунов и советников мудрых, воспитавших и юного князя и величие России» [40]. Почему погибло бы государство, если бы великим князем стал представитель не московской, а тверской или нижегородской княжеской линии, Н.М.Карамзин не писал. Рассмотрение таких «мелочей» означало бы для него отказ от проводимой концепции, потребовало бы более углубленной разработки истории Руси «удельного периода» и, как следствие этого — выяснения характера великокняжеской и удельнокняжеской власти на определенных территориях. Всего этого Н.М.Карамзин постарался избежать.
Представив эпоху феодальной раздробленности как «темный» и малозначительный период русской истории, Н.М.Карамзин, естественно, не интересовался процессами дробления и консолидации территорий княжеств. В его труде нельзя найти обобщающих данных о существовавших в XIII—XV вв. северо-восточных русских княжествах, их центрах и примерных границах, административном делении и т.п.
Если многие проблемы образования и эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси остались вне интересов Н.М.Карамзина, то нельзя не отметить его стремления к точной локализации указанных в летописных известиях, правда лишь домонгольского времени, городов, сел, рек и урочищ, расположенных на этой территории.
Выяснение таких конкретных вопросов способствовало решению более широких задач: определению приблизительных размеров территории, ее административных центров, маршрутов походов и т.д. В методику локализаций Н.М.Карамзин сумел внести значительную лепту. Определяя место того или иного древнего географического объекта, он исходил из обстоятельного анализа описания места событий в летописях, сопоставлял между собой различные летописные версии об этих событиях, географические номенклатуры XI—XIII вв. он сравнивал с данными известного географического справочника XVII в. «Книги Большому Чертежу» и, видимо, с показаниями современных ему карт.
В результате многие географические объекты XI — первой трети XIII в. Северо-Восточной Руси были определены Н.М.Карамзиным верно [41]. Впрочем, были и ошибки [42]. Что касается послемонгольского периода, то здесь историк сделал гораздо меньше. Выписывая вслед за М.М.Щербатовым длинные перечни волостей и сел из духовных грамот московских князей, он оставлял их без каких-либо комментариев, лишь в единственном случае мимоходом заметив, что «многие из сих деревень или сел известны и ныне под теми же именами» [43].
К середине XIX в. изучение истории формирования территории Древней Руси и Русского государства, а также определение местоположении различных древних географических объектов вылилось в публикацию ряда уже специальных работ, посвященных этим сюжетам. Среди них должны быть отмечены разыскания М.П.Погодина о местонахождении городов, селений, рек и урочищ древнерусских княжеств домонгольского времени, дополненные Н.И.Надеждиным и К.А.Неволиным [44]. Один из разделов исследования М.П.Погодина посвящен географическим номенклатурам Переяславского (Южного) княжества, в состав которого М.П.Погодин включил и Ростовскую землю [45]. М.П.Погодин выписал почти все такие, относившиеся к Северо-Востоку номенклатуры из русских летописей за период до конца 30-х годов XIII в. Их оказалось больше, чем, например, у Н.М.Карамзина. Но при локализации летописных названий М.П.Погодин из-за поверхностного анализа не смог существенно дополнить своих предшественников. Напротив, иногда М.П.Погодин делал ошибки по сравнению с ними или предлагал явно неудачные варианты [46]. Н.И.Надеждин и К.А.Неволин внесли несколько уточнений в заключения М.П.Погодина и правильно определили местонахождение ряда рек и пунктов, отыскать которые М.П.Погодину не удалось [47]. На основании проведенных локализаций М.П.Погодин сумел в общих чертах наметить границы Владимиро-Суздальского княжества к 30-м годам XIII в. [48] Но установив границы этого и других княжеств, он сделал совершенно неожиданный вывод: «пределы княжеств... совпадают с пределами древних племен» [49]. Однако Волго-Окское междуречье не было территорией расселения какого-то одного восточнославянского племени. Стремясь согласовать этот факт с общим выводом, М.П.Погодин объявил, что «все области по княжествам — Полоцкому, Смоленскому, Суздальскому — принадлежали Новугороду искони» [50]. Последнее уже решительно противоречило источникам. Определяя размеры территорий древнерусских княжеств по разновременным данным XI—XIII вв., М.П.Погодин не смог проследить динамики изменения границ. Отсюда и его заключение об их длительной стабильности и глубокой древности. Этот вывод М.П.Погодина некритически был воспринят последующими исследователями, и его мысль о тождестве территорий древнерусских племен с территориями позднейших княжеств находила сторонников не в одном поколении историков.
При относительной скромности конечных результатов труд М.П.Погодина, П.И.Надеждина и К.А.Неволина ценен прямыми указаниями на методику исследования: локализация географических объектов по смежности с известными пунктами, привлечение различных летописных версий с описанием мест событий, использование подробных географических карт XIX в. и замечаний краеведов, наконец, обращение к спискам поселений XIX в. [51] Хотя изложенная методика была несовершенна, с ее помощью нельзя было определить местонахождение исчезнувших или переменивших к XIX в. свои названия древних объектов, тем не менее она явилась шагом вперед по сравнению с приемами прежних исследователей.
Несмотря на начавшуюся специальную разработку историко-географических сюжетов, наиболее заметный прогресс в изучении формирования государственной территории Северо-Восточной Руси был достигнут в русской исторической науке XIX в. в работе общего характера. Речь идет об «Истории России с древнейших времен» С.М.Соловьева. Уже в первом томе своего труда С.М.Соловьев сформулировал новый по сравнению с дворянской историографией рзгляд на происхождение Русского государства и его территории. По его мнению, государство появляется тогда, когда возникает монархическая власть. Но эта власть зародилась не в IX в., как считал Н.М.Карамзин. Единодержавие на Руси сложилось в XVI в., с того времени и можно говорить о Русском государстве [52]. В древний период русской истории, т.е. до XVI в., преобладали родовые отношения между князьями. Лишь со второй половины XII в. на Северо-Востоке начинается борьба между родовым и государственным началами, которая оканчивается тем, что «княжество Московское вследствие разных обстоятельств пересиливает все остальные, московские князья начинают собирать Русскую землю: постепенно подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества, постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным, удельные князья теряют права свои одно за другим, пока наконец в завещании Иоанна IV удельный князь становится совершенно подданным великого князя...» [53]. Таким образом, консолидация территории средневековой Руси представлялась С.М.Соловьеву гораздо более сложным процессом, чем Н.М.Карамзину, сводившему его к усилению желания единовластия того или иного великого князя.
Как же объяснял С.М.Соловьев причины дробления территории между различными княжескими ветвями и последующее ее объединение? С его точки зрения, основную роль здесь сыграла географическая среда. В условиях Восточно-Европейской равнины решающее значение имели реки, водные пути, по которым и шло образование древнейших княжеств: «...особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств» [54]. Природа указала и место сложения Русского государства. Это район истоков рек Волги, Днепра и Западной Двины — «Великая Россия, Московское государство, справедливо называемое страною источников: отсюда берут свое начало все те большие реки, вниз по которым распространялась государственная область» [55]. Политический центр рассматривался как центр географический, к которому в силу естественных природных условий стягивались территории более удаленных княжеств. Рост государственной территории С.М.Соловьев трактовал как колонизацию, мирное заселение пустых пространств вдоль течений крупных рек: «государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их; государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации...» [56], «...реки много содействовали единству народному и государственному» [57]. Применительно к Северо-Востоку увеличение государственной территории выразилось, по мнению С.М.Соловьева, в освоении земель по р.Волге и по речным путям на юг от г.Ростова [58].
Соловьевское объяснение происхождения государства и его территории было материалистическим. Оно представляло собой шаг вперед по сравнению с идеалистическими и субъективистскими концепциями дворянской историографии [59]. И тем не менее оказалось далеко от истинного. Материализм С.М.Соловьева страдал схематизмом, был механистическим.
Органические изъяны схемы С.М.Соловьева ясно проявились в его конкретном исследовании вопроса о сложении и развитии государственной территории на Северо-Востоке. Расширение этой территории шло не только по Волге и не только по рекам на юг от оз.Неро. А в послемонгольское время образовалось не одно Московское княжество, но и ряд других, которые ранее Московского стали претендовать на роль центра, вокруг которого должны были объединиться остальные княжества Северо-Восточной Руси. У С.М.Соловьева нет сколько-нибудь подробной характеристики таких княжеств и их территорий. Но в изучении Московского княжества, стержневого в концепции С.М.Соловьева, им по сравнению с прежними историками было сделано немало.
С. М. Соловьев впервые попытался определить географию владений московских князей, относившихся к их уделам волостей и селений [60]. Сопоставляя историко-географические свидетельства духовных и договорных грамот XIV—XV вв. московских князей с картами и, по-видимому, со списками поселений XIX в., он сумел локализовать целый ряд древних волостей и пунктов. Однако односторонняя методика исследования, тождественная, по сути дела, тем приемам, которыми пользовался М.П.Погодин при определении местоположений географических объектов X—XIII вв., не позволила ему выяснить географию гораздо большего количества волостей и сел. Некоторые же предложенные С.М.Соловьевым локализации были ошибочны [61].
Построения С.М.Соловьева оказали сильное воздействие на развитие русской буржуазной историографии. Влияние его идей отразилось и на изучении истории формирования территории Северо-Восточной Руси. После «Истории России...» это изучение стало принимать все более специальный и локальный характер.
К числу специальных относятся две работы Н.П.Барсова. В 1865 г . он выпустил
«Географический словарь Русской земли (IX—XIV ст.)», а в 1873 г . издал «Очерки
русской исторической географии» [62].
В обеих книгах были затронуты вопросы исторической географии всех
восточнославянских земель, но здесь речь, естественно, должна идти о
Северо-Восточной Руси.
В «Словарь» Н.П.Барсов включил географические названия домонгольского времени, относившиеся к территории древнего Ростовского княжества, перечень «залесских» городов из так называемого «Списка русских городов дальних и ближних», географические номенклатуры из двух завещаний Ивана Калиты, а также некоторые названия из летописных описаний событий XIV в. Однако в итоге внесенные в «Словарь» списки северо-восточных городов, сел, волостей, рек и урочищ оказались с пропусками [63]. Местоположение указанных объектов Н.П.Барсов определял, по-видимому, с помощью современных ему географических карт и списков населенных мест, не всегда учитывая разыскания своих предшественников. В результате многие его отождествления оказались ошибочными, а целый ряд объектов — не отысканными [64].
Другая книга Н.П.Барсова содержит меньше конкретных сведений о Северо-Восточной Руси, но представляет некоторый интерес с точки зрения постановки и решения более общих историкогеографических задач. Автор попытался дать этническую характеристику населения Волго-Окского междуречья до прихода туда славян, выяснить центры и направления славянской колонизации, определить границы между различными восточнославянскими племенами в этом районе, установить, какие северо-восточные славянские центры и в какой период находились в подчинении Новгорода и Киева [65]. Таким образом, проблема становления и развития собственно государственной территории на Северо-востоке заняла в работе Н.П.Барсова довольно скромное место. В своем исследовании Н.П.Барсов ограничился данными Повести временных лет и топонимическими свидетельствами географических карт и списков населенных мест XIX в., иногда — грамот XVI в. и писцовых описаний XVII в. Отсутствие источниковедческого анализа Повести временных лет и неудачное использование топонимии [66] привели Н.П.Барсова к выводам явно сомнительного характера. Ошибочно считая вслед за М.П.Погодиным восточнославянские племена отдельными княжениями, Н.П.Барсов и племенную территорию рассматривал как государственную и не находил ее принципиальных отличий от территории эпохи развитого феодализма. Напротив, по его мнению, границы племен в IX в. определили границы княжеств XII—XIV вв. [67] Расширение же территории Н.П.Барсов, как и С.М.Соловьев, объяснял исключительно природными особенностями тех районов, где жили восточнославянские племена [68]. У Н.П.Барсова была, правда, робкая попытка связать эволюцию территории (по крайней мере, развитие административно-территориального деления) с социальными изменениями [69], но характер последних оставался неясен самому Н.П.Барсову. Такое стремление только нарушило стройность его концепции о естественногеографической обусловленности территориальных модификаций. В целом книга Н.П.Барсова внесла мало нового в разработку проблемы о формировании древнерусской государственной территории на Северо-Востоке [70]. Перенос же топонимических данных XIX в. в IX—XII вв. только усложнил решение тех конкретных вопросов, которые стремился выяснить Н.П.Барсов.
Примерно в одно время с основной книгой Н.П.Барсова вышла в свет работа Д.А.Корсакова «Меря и Ростовское княжество» [71]. Автор ставил перед собой задачу дать очерк истории Волго-Окского междуречья с древнейших времен до XV в., следя преимущественно за Ростовским княжеством. При рассмотрении истории Ростовского княжества на различных этапах его существования Д.А.Корсаков определенное внимание должен был уделить проблемам формирования государственной территории. Он коснулся таких сюжетов, как пути проникновения славян в Волго-Окское междуречье, районы их первоначального расселения, подчинение Ростовской области Новгороду, а затем Киеву, возникновение на ее территории суверенного княжества, выделение в начале XIII в. Ростовского княжества из Владимирского, его распад на уделы в XIII—XV вв. и их переход под власть московских князей.
Согласно Д.А.Корсакову, Волго-Окское междуречье заселялось славянами из Новгорода и Приднепровья. Начало положила вольная колонизация, развивавшаяся совершенно стихийно под влиянием поисков ответа на "исконный вопрос всего человечества и русского человека в особенности: "где лучше?"" [72]. Далее следовали княжеско-военная, означавшая «завоевание страны», монастырская и промышленно-торговая колонизации [73]. Некритически воспринимая древнейшие известия русских летописных сводов, в частности легенду о призвании варягов, Д.А.Корсаков относил Ростовскую землю к новгородским владениям Рюрика, а после перехода Олега. в Киев — к части Древнерусского государства [74]. Но со смертью Олега Ростовское княжество, с точки зрения исследователя, обрело «достаточную независимость», и только в конце Х в. на его территорию вновь распространили свою власть киевские князья [75]. Юрия Долгорукого Д.А.Корсаков рассматривал преимущественно как киевского князя [76], а потому окончание зависимости Ростовской земли от Киева он относил, судя по ходу его изложения, ко времени Андрея Боголюбского [77].
Со смертью Всеволода Большое Гнездо начался новый этап в истории Ростовского княжества. Ростов был выделен Всеволодом своему старшему сыну Константину, как другие города — другим сыновьям. Произошло «обособление этих территориальных уделов, отдельных княжений земли Ростовско-Суздальской» [78]. Появление уделов Д.А.Корсаков объяснял увеличением княжеских семей и населения вообще [79]. Указав, какие города завещал Всеволод сыновьям [80], Д.А.Корсаков в дальнейшем сосредоточил свое внимание на судьбе собственно Ростовского княжества, дав краткую характеристику его позднейшим уделам вплоть до их присоединения к Москве [81].
В понимании причин роста государственной территории, ее дробления и последующей консолидации Д.А.Корсаков следовал в основном за С.М.Соловьевым. Что касается конкретного показа изменений территории Ростовского княжества, то здесь Д.А.Корсаков, повторяя статьи ярославских краеведов в местных «Губернских ведомостях», допустил много неточностей. Так, к территории Ростовского княжества начала XIII в. он ошибочно отнес земли Костромы и Галича Мерского, к Угличу — Кашин, подчинение Ростова Москве — ко времени Дмитрия Донского, удел второго сына ярославского князя Василия Давыдовича Глеба Д.А.Корсаков почему-то помещал в Пошехонье, тогда как он находился в противоположной, восточной части княжества, и т.д. [82] В целом характеристика эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси до XIII в. и Ростовского княжества XIII—XV вв. получилась у Д.А.Корсакова фрагментарной и нечеткой, не говоря уже о слабости методологических посылок. Тем не менее книга Д.А.Корсакова вплоть до начала XX в. оставалась единственным обобщающим исследованием, содержащим такую характеристику [83].
Д.А.Корсаков намеревался в дальнейшем «изложить историю всех остальных княжеств земли Ростовско-Суздальской» [84], но свое намерение не осуществил. Между тем монографическое изучение каждого крупного княжества Северо-Восточной Руси XIII—XV вв. позволило бы определить, как изменялась территория такого княжества, выявить местные особенности в ее дроблении и консолидации и т.д. Однако и по сегодняшний день таких монографий почти нет.
Среди опубликованных следует отметить книгу В.С.Борзаковского о Тверском княжестве [85]. Несколько десятков страниц своего исследования В.С.Борзаковский посвятил образованию территории этого княжества, локализации его городов и сел, определению границ [86]. Для решения названных вопросов он привлек не только летописные данные, списки населенных мест и карты XIX в., но и договорные грамоты, родословные книги, актовый материал XIV—XVI вв. Благодаря этим источникам В.С.Борзаковскому удалось локализовать большинство поселений, наметить довольно точно границы Тверского княжества, особенно на востоке, указать ряд тверских уделов. Однако слабое представление о генеалогии летописных сводов не позволило ему анализировать древнейшие летописные записи, содержащие сведения о тверской территории; акты были привлечены В.С.Борзаковским выборочно, а договорные грамоты исследованы не всегда тщательно. В итоге характеристика территории Тверского княжества на протяжении XIV—XV вв. получилась статичной. Поэтому тенденций происходивших в княжестве территориальных изменений В.С.Борзаковский выявить не сумел.
В 80-х годах XIX в. в русской исторической, а также историкоюридической литературе появился ряд работ, авторы которых попытались иначе, чем прежде, осмыслить вопросы зарождения и развития на Руси государственной власти, в том числе и зависимой от этой власти территории.
Почин сделал В.О.Ключевский, который в своей докторской диссертации предложил новое объяснение происхождения древнерусской государственной территории. По его мнению, под влиянием успехов промысловой и торговой деятельности населения на территории, занятой восточнославянскими племенами, начали появляться города, которые стягивали к себе мелкие местные рынки [87]. В результате образовались городские «промышленные округа», уже не совпадавшие с племенными территориальными делениями [88]. Наиболее интенсивно процесс этот шел в VIII— первой половине IX в. Но в первой же половине IX в., когда поколебалась власть Хазарского каганата над восточными славянами, города вынуждены были «собственными средствами восстановлять и поддерживать свои старые торговые дороги» к приморским рынкам [89]. Торговый город вооружился и подчинил себе промышленную округу [90]. «Торговый вооруженный город стал узлом первой политической формы, завязавшейся среди восточных славян на новых местах жительства», — утверждал В.О.Ключевский [91]. А области городов, по его мнению, «легли в основание областного деления, какое видим на Руси впоследствии, в XI и XII в.» [92] На Северо-Востоке древнейшими центрами таких областей были Ростов и Белоозеро [93]. Так разом объяснялось и зарождение государственной территории, и ее эволюция.
Но предложенное В.О.Ключевским толкование этих процессов было неверным. Материал о мелких сельских торжках VIII—IX вв. и их связях с крупными городами восточных славян отсутствовал. Мысль ученого спаяла разнородные явления древнерусской жизни IX—XII вв. и искусственно выстроила их в единый логический ряд [94]. Так возникла «торговая» теория происхождения Русского государства и его территории [95].
Позднее в «Курсе русской истории» В.О.Ключевский продолжил характеристику государственной территории Северо-Восточной Руси. Он дал конкретный перечень княжеств, на которые в XIII—XIV вв. распалась территория древнего Ростовского княжества [96]. Перечень этот был не совсем полон и не вполне точен [97], но давал представление о процессах территориального дробления в Волго-Окском междуречье.
В «Курсе...» В.О.Ключевский коснулся также причин другого крупного явления истории средневековой Руси — консолидации земель на Северо-Востоке. Возвышение Москвы, объединение русских земель под властью ее князей он объяснял исключительностью географического положения Московского княжества, лежавшего на важных торговых путях, а потому быстро богатевшего, и принадлежностью московских князей к младшей линии потомков Александра Невского [98]. Последнее обстоятельство закрывало, по мнению В.О.Ключевского, Даниилу Московскому и его сыновьям лествичное восхождение к великокняжескому столу во Владимире, который получали представители старших линий, а потому заставляло действовать московских князей решительно и нетрадиционно. Располагавшие крупными денежными средствами, правители Москвы широко скупали земли соседей, захватывали их силой и дипломатическим путем с помощью Орды, заключали неравноправные служебные договоры с местными князьями, брали под свой контроль территории, освоенные московскими переселенцами [99]. Таковы были, по В.О.Ключевскому, причины и способы расширения московскими днязьями подвластной им территории.
Если характеристика В.О.Ключевским методов собирания земель московскими князьями была довольно верной, то в его концепции оставалось совершенно неясным, почему те же причины не действовали в отношении иных княжеств, например лежавших на волжском торговом пути. Проблема образования единого Русского государства и формирования его территории подменялась у В.О.Ключевского рассмотрением причин возвышения Москвы.
Следом за В.О.Ключевским напечатал свою большую работу общего характера В.И.Сергеевич [100]. Один из ее разделов был посвящен характеристике государственной территории средневековой Руси.
Согласно В.И.Сергеевичу, территория является неотъемлемым элементом государства [101]. Поскольку для домонгольского периода характерной чертой было существование у восточных славян небольших государств — «волостей» (княжеств), территория каждой такой «волости» была скромной по своим размерам [102]. В.И.Сергеевич допускал, что первоначально территория «волости» совпадала с племенной территорией. Однако в «историческое время» (более точно В.И.Сергеевич его не определял) границы «волостей» уже не соответствовали племенным: одно племя могло населять ряд «волостей», а несколько разных племен — одну «волость» [103]. Административная структура «волостных» территорий, по представлениям В.И.Сергеевича, была однотипной. Центром «волости» являлся старший город. Городу подчинялись земли, иногда обширные. На этих землях вырастали пригороды. С усилением пригородов происходило выделение их в самостоятельные «волости» [104]. Так было, например на Северо-востоке с городом Владимиром, обособившимся от старших городов Ростова и Суздаля [105].
Если В.О.Ключевский пытался в духе своего понимания истории наметить какие-то экономические и социальные аспекты формирования древнерусской государственной территории, то В.И.Сергеевич даже не ставил этих вопросов, просто постулируя свои положения.
Возможно, что неудовлетворенность собственными определениями государства и его территории побудила В.И.Сергеевича в последующих переизданиях работы значительно расширить раздел о государственной территории средневековой Руси и уточнить дефиниции. Теперь В.И.Сергеевич приходил к мысли, что «Термин власть — волость" очень хорошо выражает юридическую природу государственной территории: все, что находится в пределах территории, состоит под одною властью, а потому и составляет одно государственное целое — волость» [106]. Не говоря о полном отсутствии и в более позднем варианте книги В.И.Сергеевича классового подхода (хотя бы в буржуазном его варианте) к изучению государства и его территории, данное им определение не выдерживает даже формальной критики: под одною властью может находиться и территория племени, но от этого она не станет государственной [107].
Дробление территории В.И.Сергеевич объяснял «естественным ростом пригородов», «стремлением членов княжеского рода... иметь независимое от других князей положение» (последнее, правда, приводило и к «соединению... волостей», поскольку само «стремление» выливалось в войны из-за земель) и любовью князей к своим детям, которые вынуждали их «нарушать требования разумной политики», назначая им уделы [108]. В последнем В.И.Сергеевич просто повторял Н.М.Карамзина.
В духе карамзинских воззрений трактовал В.И.Сергеевич и процесс консолидации государственной территории, видя в нем лишь отражение «стремления» князей «к образованию большого нераздельного государства» [109]. Княжеская воля преподносилась как основная причина крупного исторического явления.
В 1886 г .
с «Обзором истории русского права» выступил М.Ф.Владимирский-Буданов. Два
специальных параграфа «Обзора...» были посвящены характеристике государственной
территории.
Исходя из определения государства как «союза лиц, занимающих определенную территорию и управляемых одною верховною властию» [110], М.Ф.Владимирский-Буданов считал, что еще в доисторическую эпоху, т.е. в период, не освещенный или слабо освещенный письменными источниками, у восточных славян существовали государства, обозначаемые термином «земля». Племена, упомянутые в Начальной летописи, и были, по М.Ф.Владимирскому-Буданову, «землями-княжениями» [111]. Такие «земские государства» представляли собой объединения соседских общин, образовавшиеся на основе единства территории [112]. Каждое «земское государство», согласно М.Ф.Владимирскому-Буданову, имело однотипную территориальную структуру: старший город, где жила центральная община; пригороды, где жили общины, отпочковавшиеся от главной; волости — округа, подчинявшиеся пригородам и населенные сельскими общинами [113]. Государства-«земли» существовали вплоть до XIII в. Появление в IX в. князей и последующий раздел между ними владений лишь способствовали, по мнению исследователя, централизации государственной территории: «удельная система повела не к раздроблению мнимого единства государства, а к большему слитию прежних раздельных земель» [114]. «Развитие государственной русской территории в 1-м периоде (т.е. в IX—XIII вв. — В.К.) идет от меньших единиц к более крупным (а не наоборот)», — подводил далее итог М.Ф.Владимирский-Буданов [115].
Во II периоде, т. е. в XIV—XVII вв., этот процесс продолжался. С точки зрения М.Ф.Владимирского-Буданова, он имел две особенности, различавшиеся хронологически: в XIV—XV вв. на Северо-Востоке шло «образование единой государственной территории (единодержавия) из северно-русских земель», а в XVI—XVII вв. происходило «расширение территории на страны нерусские» [116]. Причину консолидации и роста государственной территории М.Ф.Владимирский-Буданов усматривал в сохранении идеи политического единства древней «земли» у населения и у князей [117], причем господство в «земле» последних, приводившее к укреплению вотчинных начал, обусловило то обстоятельство, что расширение территории осуществлялось с помощью частных средств: покупок, приобретений по завещанию, «завладения без войны» [118].
В изложенной схеме появления и развития государственной территории древней Руси М.Ф.Владимирского-Буданова много логических несообразностей и противоречий с конкретным материалом. Этого материала в работе М.Ф.Владимирского-Буданова очень мало, систематически он не проработан и не проверен. Отсюда большие неточности в перечислении существовавших в XIII—XIV вв. княжеств Северо-Восточной Руси, указания на периоды XIV—XV и XVI—XVII вв. как отличающиеся совершенно различными признаками консолидации и роста государственной территории [119] и т.п. О слабости же теоретических посылок М.Ф.Владимирского-Буданова не приходится специально и говорить, настолько она очевидна. Не случайно поэтому, что представления М.Ф.Владимирского-Буданова о государственной территории Руси не получили признания и поддержки даже в его время [120].
С 90-х годов XIX в. теоретические разработки вопроса о государственной территории Руси, в том числе и Северо-Восточной, уступают место конкретным исследованиям, хотя и не носящим специального характера (или носящим такой характер, но не охватывающим всей территории), однако затрагивающим данную проблематику.
Из исследований такого рода необходимо отметить труд А.В.Экземплярского о князьях Северо-Восточной Руси. Наиболее ценен второй том этой работы, где собраны сведения о всех существовавших княжествах (кроме Владимирского и Московского, рассмотренных в первом томе) Северо-Восточной Руси в послемонгольское время и их князьях. Критическая проработка прежних генеалогических изысканий о Рюриковичах, широкое использование летописного и актового материала, родословных книг позволили А.В.Экземплярскому в большинстве случаев верно указать место того или иного князя в рядах разросшегося к началу XVI в. потомства Всеволода Большое Гнездо. Тем самым определялось максимальное теоретически допустимое число княжеских уделов на Северо-Востоке в XIII—XV вв.
Хотя основное внимание А.В.Экземплярский сосредоточил на выяснении родословия князей и их биографиях, тем не менее при описании их княжений он указывал на центры княжеств или приблизительное расположение последних (например, Сицкого удела Моложского княжества по р.Сити), давая тем самым ценный материал для изучения государственной территории в рассматриваемое им время [121]. К сожалению, каких-либо историко-географических выводов из своих разысканий А.В.Экземплярский не делал, некоторые из его указаний были неверны, но, пожалуй, самой существенной ошибкой исследователя было то, что во всех князьях второй половины XIII—XIV вв. он видел удельных правителей. Вопрос о коллективном княжеском суверенитете над определенными территориями им даже не ставился. Между тем от его решения зависела характеристика не только отдельных князей, но и подвластных им земель.
К числу специальных должна быть отнесена работа В.Н.Дебольского о географических сведениях духовных и договорных грамот московских князей XIV — начала XVI в. Объектом исследования В.Н.Дебольского стали те самые источники, которые были введены в научный оборот М.М.Щербатовым и с историко-географической стороны изучались С.М.Соловьевым. Не ставя перед собой широких научных задач, В.Н.Дебольский в то же время применил новую методику анализа названных источников.
Он сравнил историко-географические данные грамот между собой, что позволило определить относительное положение некоторых упомянутых в грамотах волостей и сел, потом произвел сопоставление географических номенклатур грамот со сведениями опубликованных к началу XX в. писцовых книг XVI—XVII вв. и некоторых актов того же времени, а затем — со свидетельствами изданных Списков населенных мест центральных губерний Российской империи и с составленной Генеральным Штабом 10-верстной картой Европейской России [122].
Привлечение для сравнения источников XVI—XVII вв. позволило В.Н.Дебольскому добиться гораздо больших конкретных результатов, чем, например, С.М.Соловьеву, проверявшему сведения грамот XIV—XV вв. материалами XIX в. Дело в том, что значительное количество волостей XIV—XV вв. сохранилось и в XVI—XVII вв. Но если в грамотах московских князей волости только назывались, то в писцовых книгах и актах XVI—XVII вв. на территориях таких волостей указывались определенные села и деревни. Часть их дожила до XIX в. включительно и отыскивалась по Спискам населенных мест и картам. Эти легко локализуемые поселения XIX в., существовавшие в XVI—XVII вв. и входившие в состав волостей, упоминаемых в XIV—XV вв., давали возможность выяснить местоположение последних. Оно, естественно, было примерным, границы древних волостей точно не восстанавливались [123], но погрешность была небольшой, а относительное расположение волостей фиксировалось достаточно четко. Это наглядно демонстрировали две карты, приложенные В.Н.Дебольским к своему труду.
Однако в тех случаях, когда волость или поселение XIV—XV вв. к XVI в. прекращали свое существование, В.Н.Дебольский оказывался не в состоянии их локализовать. Трудно это было сделать и при отсутствии хронологически промежуточных материалов XVI—XVII вв. Поэтому география целого ряда волостей и сел XIV—XV вв. осталась В.Н.Дебольским невыясненной. К тому же сам источник содержал сведения о территории не всей Северо-Восточной Руси, а лишь той ее части, которая принадлежала преимущественно московским князьям.
Сходную с исследованием В.Н.Дебольского работу проделал Ю.В.Готье. Используя неопубликованные писцовые и переписные книги первой половины XVII в. центральных районов Русского государства, он составил перечень уездов центра с относившимися к ним волостями и станами примерно на середину XVII в. и локализовал их на карте. При этом он часто указывал, когда та или иная волость или стан впервые упоминаются в источниках [124]. В результате выяснилось положение ряда волостей XIV—XV вв., в том числе и таких, местонахождение которых затруднялся определить В.Н.Дебольский. Но те древние волости, что исчезли к XVII в., не стали объектом изучения Ю.В.Готье, и их локализацией он не занимался.
Данные об административном делении русского Севера в XVII в. были собраны М.М.Богословским. Как и Ю.В.Готье, он сопроводил эти сведения экскурсами в прошлое и определил географию различных административно-территориальных единиц [125]. Благодаря исследованию М.М.Богословского стало ясно, где именно лежали некоторые волости по рекам Ваге, Сухоне и Двине, упоминаемые в источниках XIV и XV вв. и входившие в состав старинных владений князей Северо-Восточной Руси.
С попыткой переосмысления зарождения и развития
государственности у восточных славян выступил в 1909 г . А.Е.Пресняков.
Назвав свое исследование «Княжое право в древней Руси», он уделил некоторое
внимание проблеме того, на какие земли и как распространялась власть
древнерусских князей. А.Е.Пресняков отметил тенденции к объединению под этой
властью различных территорий в X—XI вв. и их раздел после смерти Ярослава
Мудрого [126].
В очерке о Ростово-Суздальской земле он коснулся вопроса о времени ее
политической самостоятельности, справедливо указав, что «начало обособлению
ростовско-суздальской земли из общей киевской системы земель-княжений положено
Юрием Владимировичем (Долгоруким. — В.К.)» [127].
В книге А.Е. Преснякова много тонких источниковедческих наблюдений, в том числе
и таких, которые могут быть использованы для характеристики территорий
отдельных княжеств XII в., но в целом административно-территориальная структура
Древнерусского государства и выделившихся из его состава более мелких
государственных образований даже с точки зрения функций княжеской власти
А.Е.Пресняковым рассмотрена не была. Следуя за распространенной в русской
буржуазной историографии теорией о городе и его волости как «исходном пункте
исторического развития восточного славянства» [128],
он пытался образование города и формирование относившейся к нему территории
рассматривать как результат исключительно княжеской деятельности. «Не вижу
оснований, — писал А.Е.Пресняков, — искать носителей организующих городской
строй сил вне князей, вне варяжских вождей» [129].
Не господствующий класс, не созданный в его интересах государственный аппарат
власти сыграли решающую роль в становлении государственной территории [130]
у восточяых славян, а действия пришельцев-князей, т.е. верхушки
государственного управления, определили, согласно А.Е.Преснякову, ее генезис.
Развитием «княжого права» объяснял А.Е.Пресняков и образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. Расширение и усложнение функций княжеской власти, «собирание власти», как называл это явление исследователь, и обусловило, по его мнению, создание единого Русского государства во главе с Москвой [131]. Нужно сказать, что изучение «княжого права» применительно к Северо-Восточной Руси XIII—XV вв. было делом далеко не бесполезным, оно проливало свет на вопросы, почему только представители определенной княжеской линии (именно потомство Ярослава Всеволодовича) возглавили процесс консолидации русских земель на Северо-Востоке и почему только определенные княжества служили территориальной основой этой консолидации. Однако усматривать в усилении верховной власти первопричину центростремительных тенденций па Руси, игнорируя развитие экономики и социальных отношений, в частности эволюцию господствующего класса, было неправомеряым. К тому же А.Е.Пресняков проследил изменение «княжого права» даже не во всех княжествах Северо-Восточной Руси. Основными объектами его изучения стали великие княжества Владимирское, Московское, Тверское, Нижегородское и Рязанское [132], причем надо заметить, что Рязанское княжество никогда не входило в состав Северо-Восточной Руси и его князья как раз с точки зрения «княжого права» не могли претендовать, да и никогда не претендовали, на стол Владимирского великого княжения и на роль собирателей Руси [133].
Неполное рассмотрение А.Е.Пресняковым северо-восточных княжеств, являясь очевидным минусом с точки зрения выполнения сформулированной самим исследователем задачи — проследить образование Великорусского государства в целом, а не отдельных его частей, тем не менее стало шагом вперед в русской историографии, обычно сводившей проблему становления единого Русского государства к возвышению Москвы.
Несомненную ценность для характеристики территории Северо-Восточной Руси в XIII—XIV вв. имеет ряд конкретных наблюдений и выводов А.Е.Преснякова. Он проследил образование новых княжеств на Северо-востоке во второй половине XIII в., дав, таким образом, материал для политической карты того времени [134], обрисовал владельческую судьбу Переяславского княжества в начале XIV в. [135], определил характер владения уделами в Тверском княжестве во второй трети XIV в. [136] и т.д. Принципиально важны заключения А.Е.Преснякова о существовании в Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. коллективного княжеского суверенитета над некоторыми территориями [137] и об усилении феодального дробления территорий ряда княжеств в период укрепления великокняжеской власти [138].
Плюсы и минусы труда А.Е.Преснякова отмечались уже его современниками. «А.Е.Пресняков, — писал М.К.Любавский, — сосредоточил свое внимание преимущественно на внутренней эволюции великокняжеской власти и междукняжеских отношениях в эпоху собирания северо-восточной Руси вокруг Москвы, разрушил прежние концепции этих отношений, но не уделил достаточно внимания материальному фундаменту, на котором созидалась новая государственная власть Великороссии, т.е. княжениям и их населению... Преувеличив силу и значение... властной традиции великого княжения Владимирского, проф. А.Е.Пресняков недооценил в то же время значения «великого княжения Владимирского», как комплекса крупных и ценных территорий, источника больших военных и финансовых средств, благодаря которому, а не благодаря стародавней традиции власти, слияние его с Московской вотчиной действительно было решающим фактором в деле государственного объединения Великороссии вокруг Москвы» [139]. Сам М.К.Любавский поставил перед собой цель изучить «материальный фундамент» — черриторию, на которой сложилось Русское централизованное государство.
Свое исследование он назвал «Образование основной государственной территории великорусской народности» [140]. В не совсем обычном названии отразилось восходящее к его учителю В.О.Ключевскому представление М.К.Любавского о Русском государстве как политическом объединении русской народности и как государстве национальном (общенародном) [141]. Непризнание классового характера государства приводило М.К.Любавского к трактовке государственной территории не как объекта права феодального класса, а как этнографической категории, принадлежащей определенной этнической общности. В истории «начальной великорусской территории подлежат выяснению, — утверждал М.К.Любавский, — два процесса: процесс создания ее, как территории этнографической, т.е. заселения ее славянскими племенами, из которых, в смешении с местными инородцами, образовалась великорусская народность, и процесс государственного объединения различных частей этой этнографической территории» [142]. В соответствии со сказанным он разделил свою работу на две неравные части: главу I он посвятил истории колонизации края славянами, а главы II—V — рассмотрению территории Московского княжества и территориальных к нему приращений (в хронологическом порядке).
Для показа территориальных изменений М.К.Любавский привлек громадный фактический материал: все основные изданные в XIX — начале XX в. сборники древних документов, опубликованные писцовые книги XVI в., неопубликованные акты XV—XVI вв. из фонда Грамот Коллегии Экономии (ныне — в ЦГАДА), копии грамот XIV—XVI вв., снятые С.Б.Веселовским, а также труды на историко-географнческие темы В.Н.Дебольского, Ю.В.Готье, М.М.Богословского и других авторов [143]. В результате книга М.К.Любавского оказалась перенасыщенной конкретными данными: одни простые перечни волостей, сел, монастырей на той или иной территории занимают по нескольку страниц текста [144]. Благодаря привлечению неопубликованных грамот М.К.Любавский сумел локализовать ряд волостей и сел, чего не удалось сделать в свое время В.Н.Дебольскому и Ю.В.Готье [145].
Однако в большинстве случаев факты, характеризующие различные части территории Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв., даны М.К.Любавским суммарно и статично. Говоря, например, о присоединении при Дмитрии Донском к Москве Стародубского княжества (на самом деле оно было присоединено позднее), исследователь сообщил все известные ему сведения о волостях и селах на его территории, причем преимущественно по писцовым описаниям 60-х годов XVI в. [146] Хронологическая нерасчлененность историко-географических сведений XIV—XVI вв., с точки зрения М.К.Любавского, возможно, давала ему право говорить о хозяйственном освоении территории, но она не позволила историку очертить пределы той «территории этнографической», которая, по его мнению, начала объединяться в государственную, охарактеризовать по периодам территориальные изменения в различных княжествах Северо-Восточной Руси, показать эволюцию их административного деления и т.д. Мало нового внес этот исследователь и в методику локализации русских средневековых географических объектов, пытаясь определить местоположение последних с помощью лишь карт начала XX в. [147]
Хотя работы А.Е.Преснякова и М.К.Любавского, посвященные преимущественно периоду XIV—XV вв., вышли уже в советское время, их нельзя отнести к числу марксистских. Между тем попытки применить марксизм к русской истории делались профессиональными историками еще в дооктябрьский период. К числу таких историков относились Н.А.Рожков и М.Н.Покровский. Марксистской теорией исторического развития ни тот, ни другой в полной мере не овладели. В их общих курсах русской истории получили отражение проблемы экономического развития древнерусского общества и классовой борьбы в нем, что по сравнению с предшествовавшей русской историографией стало безусловной новостью, но связи базисных и надстроечных явлений ими трактовались упрощенно. Сильное влияние на их концепции оказали работы буржуазных историков и правоведов. Это влияние заметно проявилось в трактовке Н.А.Рожковым и М.Н.Покровским проблем образования и развития государства у восточных славян и его территории.
Н.А.Рожков считал, что до IX в. у восточных славян существовали племена-княжения [148]. Не проанализировав серьезным образом наблюдений В.О.Ключевского и В.И.Сергеевича относительно несовпадения племенной и городской (волостной) территорий, Н.А.Рожков утверждал, что «древнейшие русские городские области» сформировались на основе племенной кровной связи и что эти области как раз и составляли племена-княжения [149]. Само «племенное княжество появилось под влиянием отчасти внешних опасностей, но, главным образом, вследствие потребности предотвратить внутренние междувервные раздоры» [150]. Однако племенное княжество не было государством.
Последнее возникло с приходом варяжских князей. Н.А.Рожков полагал, что «русское государство в виде варяжского княжества образовалось под влиянием потребностей во внутренней безопасности и внешней защите посредством завоевания варягами или норманами различных племенных княжеств восточных славян в IХ-м веке» [151]. Причины появления догосударственных племен-княжений и Древнерусского государства у Н.А.Рожкова оказывались идентичными. Такая концепция резко отличалась от марксистского понимания проблемы возникновения государств.
Что касается территорий славянских княжеств и варяжского, то они, по мнению Н.А.Рожкова, были различны. Варяги подчинили себе ряд славянских племен. Центром их государства стал Киев [152]. Государственная территория включила в себя, таким образом, племенные территории и в пространственном отношении возобладала над ними. В то же время часть восточнославянских племен сохранила свою самостоятельность, а «зависимость их от киевского варяжского князя сводилась главным образом, если не исключительно, к уплате дани и участию в военном ополчении» [153]. Входили ли территории таких княжеств в состав территории Древнерусского государства или нет, Н.А.Рожков не разъяснял.
Подвластные же варяжской династии земли Н.А.Рожков рассматривал, подобно С.М.Соловьеву, как общее достояние княжеского рода [154]. Отмечая проявление в XI-XII вв. принципа наследственности княжеств [155], он даже не пытался определить те территории, которые переходили от отца к сыну. Превращение княжеств в вотчинные владения и стабилизацию их территорий Н.А.Рожков относил преимущественно к XIII-XV вв. [156] Становление удельной системы на Северо-Востоке он связывал с успехами земледелия и классовыми изменениями в обществе [157], что было близко к истине. Однако действия этих причин Н.А.Рожков прослеживал механистически, полагая, что они вызывали непрерывное дробление территории и нарастание числа удельных княжеств [158]. Свою мысль он иллюстрировал примерами, взятыми у В.О.Ключевского, сохранив при перечислении княжеств Северо-Восточной Руси все ошибки предшественника [159]. Неточным было его представление и о внутреннем административном делении территорий в так называемый удельный период. Ни уезды, ни станы не были тогда «основными единицами областного деления» [160].
Что касается процесса консолидации государственной территорий на Северо-Востоке, то Н.А.Рожков обрисовал его в полном соответствии с «Курсом русской истории» В.О.Ключевского [161]. Правда, походя Н.А.Рожков отметил, что «все князья удельного периода на северо-востоке России были в большей или меньшей степени хозяевами-приобретателями» [162], но конкретный материал остался за фоном обобщения, и историю отдельных княжеств Волго-Окского междуречья XIII-XV вв. Н.А.Рожков так и не осветил. В целом социологические воззрения Н.А.Рожкова на русскую историю внесли мало нового в понимание складывания и развития государственной территории Северо-Восточной Руси. Постановка лишь одной проблемы представляется заслуживающей внимания у этого исследователя: зависимость (опосредованная) территориальных изменений от развития экономики и социальных отношений.
Несколько в ином плане трактовал вопросы появления государства и складывания государственной территории у восточных славян М.Н.Покровский. Основным признаком государства он считал наличие власти государя. Эта власть выросла, по М.Н.Покровскому, органическим путем из власти отца-«самодержца» патриархальной семьи - трудового, военного и религиозного коллектива [163]. «Древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской», - утверждал М.Н.Покровский [164]. Но развитие это было осложнено норманнским завоеванием, в результате которого иноземные патриархальные вожди сменили местных [165]. Из изложения М.Н.Покровского неясно, какой именно момент он признает за время оформления восточнославянского государства: до появления норманнов или после. Но во всяком случае, когда он говорит о Рюриковичах, он говорит и о государстве.
Согласно М.Н.Покровскому, «князь был собственником на частном праве всей территории своего княжества» [166]. Такое утверждение было неверным хотя бы потому, что игнорировало факты коллективного княжеского владения определенными территориями. Но для М.Н.Покровского оно стало очень удобной формулой, поскольку избавляло от необходимости анализировать причины дробления территории между князьями. Простой рост княжеского рода должен был приводить к постоянно увеличивающемуся числу «частных» княжеств. Такие княжества и существовали в домонгольский период [167], а затем в XIII-XV вв. на Северо-Востоке до тех пор, пока не были подчинены московским князьям.
Процесс «собирания Руси» М.Н. Покровскдй рассматривал в русле представлений русской историографии XIX в., сводя его к возвышению Москвы. Вслед за В.О.Ключевским М.Н.Покровский указывал на выгодное географическое положение Московского княжества, пересекавшегося несколькими крупными международными путями, и более решительно, чем его учитель, подчеркивал экономическое значение самой Москвы [168]. Как и В.И.Сергеевич, М.Н.Покровский находил, что «руководящее значение в процессе "собирания Руси" должны были иметь крупные землевладельцы» [169]. Но общий вывод М.Н.Покровского отличался новизной. По его мнению, две общественные силы сыграли роль в создании Московского государства: «московское боярство и московская буржуазия» [170]
Таким образом, М.Н.Покровский связывал с определенными классами эволюцию государства, но не его зарождение. Нечеткость методологических посылок сделала скупой у М.Н.Покровского характеристику государственной территории, рассматривавшейся им только в качестве объекта княжого владения. Процессы феодального дробления и консолидации территорий на русском Северо-Востоке на конкретном материале М.Н.Покровским не показаны, а классовая основа тенденций к объединению определена не вполне точно: буржуазии как особого класса, занимавшего свое место в процессе производства, в Московском княжестве XIV в. не существовало.
Те же недостатки присущи и более поздней работе М.Н.Покровского - «Русская история в самом сжатом очерке» [171].
Серьезная марксистская разработка проблем образования и развития государства у восточных славян и становления и эволюции государственной территории, в том числе и на Северо-Востоке, началась в советской исторической науке после Октября. Здесь многое было сделано Б.Д.Грековым. Тщательно обосновав тезис о решающей роли земледелия у восточных славян уже в ранний период их истории [172], Б.Д.Греков показал, как на основе роста этой главной отрасли хозяйства в восточнославянских племенах начался процесс классообразования. Его итогом явилось сложение двух основных классов восточнославянского общества: класса феодалов и класса феодально-зависимого крестьянства [173]. С возникновением классов у восточных славян появляется и государство - обширная империя Рюриковичей. «Киев,- писал Б.Д.Греков,- объединял громадную территорию, в состав которой входили и Новгород, и Суздаль, и Ростов» [174]. Не определяя конкретно географических пределов Киевской Руси и ее части - Волго-Окского междуречья, исследователь тем не менее внес принципиальные изменения в прежние представления о территории Древнерусского государства. Основываясь на анализе сохранившихся источников, конкретных высказываниях К.Маркса об империи Рюриковичей, Б.Д.Греков показал, что нет оснований для утверждений о существовании нескольких мелких государств восточных славян и их обособленных территорий, а необходимо говорить о едином государстве с центром в Киеве и рассматривать другие восточнославянские города с подвластными им областями как входящие в это государство.
В 1939 г .
было опубликовано исследование С.В.Юшкова о феодализме в Киевской Руси. В
монографии, носившей более социологический, чем конкретно-исторический,
характер, С.В.Юшков посвятил два специальных раздела территориальной структуре
Древнерусского государства в IX-Х и XI-XII вв. [175]
По его мнению, в ранний период территория Древнерусского государства включала в
себя территории племенных княжений (они были основными административными
единицами) и особые территориальные комплексы, образовавшиеся в результате
объединения или дробления племенных территорий, во главе с князьями-наместниками
киевского правителя [176].
С развитием феодальных отношений и разложением первобытнообщинных племенные территории
уступали место территориям феодальных сеньорий [177].
Под феодальными сеньориями С.В.Юшков понимал так называемые городовые волости,
но давал принципиально иное объяснение их происхождению. Он полагал и,
думается, вполне справедливо, что «волости» образовывались в результате роста
феодализма и появления городов как центров феодального властвования над
определенными округами [178].
Формирование феодальных сеньорий С.В.Юшков относил к XI в.
В трактовке ученым проблемы возникновения и эволюции государственной территории восточных славян за время с IX по XII в. наряду с интересными наблюдениями и объяснениями были и существенные промахи. Так, само возникновение Древнерусского государства С.В.Юшков относил к периоду, когда у восточных славян господствовали еще первобытнообщинные отношения. Только в XI в. это государство стало феодальным. Игнорирование того факта, что государство возникает в результате непримиримости именно классовых противоречий, было основным недостатком концепции С.В.Юшкова. Отсюда и фактическое отрицание принципиальной разницы между племенной и государственной территориями. Государственная территория, по С.В.Юшкову, в значительной степени состояла из простой суммы племенных. Если развитие феодальных, классовых отношений приводило к появлению новых территориальных образований - сеньорий, то каковы были причины консолидации ряда племенных территорий или их дробления в дофеодальном Киевском государстве, С.В.Юшков не указал. Что касается конкретного показа границ Древнерусского государства, его административных единиц, в том числе границ в верхнем Поволжье и среднем Поочье, то эта сторона характеристики территориальной структуры древней Руси осталась вне интересов исследователя.
В то же время С.В.Юшков четко поставил территориальные изменения Древнерусского государства в связь с процессом классообразования, и это составляет его несомненную научную заслугу.
В том же 1939
г . была опубликована книга В.В.Мавродина об образовании
Русского государства в XIII-XVI вв. Автор сделал попытку переосмыслить в духе
высказываний К.Маркса и Ф.Энгельса основные моменты в истории объединения
земель Северо-Восточной Руси и создания единого государства. Правда, такое
переосмысление не было подкреплено надлежащим изучением фактического материала.
Книга носила популярный характер а строилась на основе данных, заимствованных у
других исследователей. Видимо, поэтому в ней много неточностей, относящихся, в
частности, и к характеристике государственной территории на Северо-Востоке в
XIII-XIV вв. Так, перечисляя княжества, выделившиеся из состава великого
княжества Владимирского после смерти Всеволода Большое Гнездо, В.В.Мавродин,
называет более 12 «уделов» [179],
но формирование только 6 из них должно быть отнесено к домонгольскому времени.
Остальные появились позже.
К княжествам, которые в XIV в. вели борьбу за стол великого княжения Владимирского, автор относит Рязанское [180], правители которого никогда не выступали претендентами на Владимир. Неверно охарактеризованы в книге территории двух крупнейших княжеств Северо-Восточной Руси XIV в. - Тверского и Московского. Тверское княжество представлено как постоянно дробившееся на уделы, к которым причислены не принадлежащие Твери Дорогобужский и Ржевский [181]. К первоначальной территории Московского княжества отнесены два города и три пригорода [182], хотя на самом деле речь может идти лишь об одном городе, но достаточно многочисленных волостях. История присоединения Переяславской территории к Москве изложена по опровергнутой А.Е.Пресняковым схеме [183] и т.д. Недостаточное внимание к фактам эволюции государственной территории на Северо-востоке в XIV в. привело автора к явному схематизму в обобщениях. С его точки зрения, в указанное время наблюдается постоянное, все нарастающее увеличение территории Московского великого княжества и столь же непрерывное феодальное дробление территорий других княжеств, в итоге легко присоединяемых к Москве [184]. Сложность, скачкообразность развития государственной территории Северо-Восточной Руси в послемонгольское время остались, таким образом, не замеченными и научно не оцененными.
К книге В.В.Мавродина приложены две карты, отображающие рост Московского княжества в 1300-1462 гг. и рост территории Русского государства в конце XV - начале XVI в. Карты, особенно первая, изобилуют погрешностями в показе границ княжеств, дат их присоединения к Москве, определении состава их городов. Так, на первой карте Оболенск, бывший центром одноименного княжества в XIII-XIV вв., показан как владение первого московского князя Даниила. На второй карте Коломна отнесена почему-то к территории Рязани и т. п.
Одновременно с работой В.В.Мавродина появилась монография
В.А.Галкина о Суздальской Руси. Автор рассматривал историю Волго-Окского
междуречья с древнейших времен до второй трети XV в., когда, по его мнению,
основанному на ошибочной интерпретации летописного известия 1432 г ., прекратило свое
существование великое княжество Владимирское. Это княжество, по мысли
исследователя, будучи «типичным самостоятельным полугосударством», «явилось
главным фундаментом для русского национального государства, объединение
которого произошло вокруг Москвы» [185].
История формирования Владимирского княжества, последующего его распада на более
мелкие государственные образования, окончательной ликвидации и составила
главный стержень книги ивановского историка.
При таком направлении исследования естественно ожидать значительного интереса автора к проблемам развития государственной территории на Северо-Востоке. К сожалению, хотя данная тема в монографии и была затронута, но особого внимания ей автор не уделил. Его многие общие и конкретные представления о территории княжеств Северо-Восточной Руси вызывают возражения. Так, В.А.Галкин полагал, что в течение нескольких столетий Киевская Русь не знала территориально-политического единства и стабильных границ, что территория Московского княжества в XIV в. включала в свой состав Ростов, будто бы бывший даже московским удельным центром, а Тверского - Ржев и Калязин [186], кстати вообще возникший в XV в. К территории Суздальской Руси он относил такие княжества, как Рязанское и Смоленское [187]. Впрочем, следуя за А.Е.Пресняковым, В.А.Галкин правильно указал на северо-восточные княжества, выделившиеся из состава Владимирского великого княжества на протяжении XIII века [188]. Верно отметил он и отрицательную роль монголо-татарского ига, способствовавшего дроблению Руси, хотя и не был последовательным в этой его оценке [189]. Но если говорить в целом, нового в исследование истории сложения и эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси книга В.А.Галкина не внесла.
Необходимость специального рассмотрения вопроса о
государственной территории Северо-Восточной Руси, которое базировалось бы на
марксистской методологии, все более назревала. И в вузовском учебнике по
истории СССР 1939 г .
появился особый параграф, посвященный этой теме. Написанный К.В.Базилевичем, он
содержал беглые характеристики территорий северо-восточных княжеств во второй
половине XIII-XIV в. Краткость характеристик не избавила их автора от серьезных
упущений. Так, Москву К.В.Базилевич почему-то включал в состав Переяславского
княжества, а не Владимирского; Кострому, видимо вслед за Д.А.Корсаковым, считал
подчиненной Ростову, образование Нижегородского княжества относил к концу XIV
в., а его территорию представлял в виде двух географически не связанных между собой
частей [190].
Исследователь писал о ростовских владениях, будто бы расположенных чересполосно
с ярославскими и белозерскими «к северу от Волги между Угличем и Костромой», о
большом количестве уделов, существовавших в Ярославском княжестве во второй
половине XIV в. [191]
Консолидацию территорий феодальных княжеств К.В.Базилевич объяснял
потребностями хозяйственной и политической жизни того времени, хотя выдвижение
на первый план экономических причин объединения было неправомерным. Эти очевидные
изъяны в общей картине формирования территорий северо-восточных княжеств в
послемонгольское время привели к тому, что в последующем издании вузовского
учебника по истории СССР периода феодализма указанный параграф был не
переработан, а просто исключен [192].
Новый этап в изучении рассматриваемой проблемы начался с
середины нашего столетия. В 1951
г . вышла из печати монография А.Н.Насонова об
образовании государственной территории Киевской Руси и развитии этой территории
до нашествия ыонголо-татар. В ней впервые был четко поставлен и на громадном
фактическом материале освещен вопрос о становлении и последующей эволюции
государственной территории у восточных славян в раннефеодальный период. Исходя
из марксистских положений о государстве, А.Н.Насонов впервые в отечественной
историографии дал определение того, что следует понимать под государственной
территорией. «Государственная территория, - писал он, - это территория,
входящая в состав данного государства, население которой подчиняется власти
государства, иными словами, это - территория, население которой в интересах
господствующего класса подчинено публичной власти, возникшей для того, чтобы
держать в узде эксплуатируемое население, творящей суд и устанавливающей
всякого рода поборы» [193].
Исследователь ставил себе целью «проследить рост государственной территории в
результате домогательств господствующего класса данного государства за
расширение власти и доходов» [194].
Акцентируя внимание на том, что возникновение государственной территории
теснейшим образом связано с процессами классообразования в обществе и
становлением государства, А.Н.Насонов в то же время подчеркивал, что «вопрос о
росте государственной территории есть также вопрос о внешней политике данного
государства» [195].
Наиболее ранним государственным образованием у восточных славян была, по мнению А.Н.Насонова, «Русская земля», занимавшая сравнительно небольшую территорию в среднем Поднепровье с городами Киевом, Черниговом и Переяславлем [196]. На протяжении IX-Х вв. киевские князья сумели распространить свою власть на громадные пространства Восточно-Европейской равнины, в различных районах которой, заселенных преимущественно восточными славянами, шел активный процесс классообразования. Здесь на местах складывалась правящая верхушка и формировалась подвластная ей территория [197]. Феодализация, шедшая из Киева, смыкалась с местной, в результате чего образовалась обширная территория Древнерусского государства [198]. Дальнейшее развитие феодализма на местах приводило не только к расширению совокупных границ Киевской Руси, но и к усилению власти местной знати, укреплению ее прав в отношении подчиненного ей населения с его территорией. В результате начался процесс феодального дробления относительно единого Древнерусского государства, территориального отпочкования отдельных земель-княжений [199].
Одной из таких земель-княжений была Ростовская. Формированию ее территории А.Н.Насонов посвятил XI главу своего исследования. Он определил древнейший очаг феодального властвования в Волго-Окском междуречье - город Ростов, показал, на какие районы распространялась первоначально власть ростовской знати, какая территория на Северо-Востоке вошла в состав Древнерусского государства. Исследователь подробно остановился на вопросе о возникновении в XII в. самостоятельного Суздальского княжества, расширении его территории; выяснил, в какое время и как оформились его границы с соседними государственными образованиями, какие новые центры феодального господства появились в его составе на протяжении XII - первой трети XIII в. [200]
Для изучения указанных аспектов проблемы ученый привлек разнообразный и обширный материал: данные археологии, нумизматики, свидетельства различных памятников письменности. Центральное место среди последних заняли сведения древнейших русских летописных сводов. Все факты были подвергнуты строгому отбору и тщательной проверке. Корректность теоретических построений, широта использованного материала, глубина источниковедческого анализа сделали очень прочными основные выводы А.Н.Насонова. Они остаютуя верными и по сей день.
К недостаткам его работы следует отнести отказ от рассмотрения процесса территориального дробления Владимиро-Суздальского княжества, ясно проявившегося уже в начале XIII в. [201] Несколько уточнено должно быть определение государственной территории, предложенное А.Н.Насоновым. В это понятие необходимо включать указание и на ненаселенные земли, захваченные феодальным классом. Локализуя упоминаемые в средневековых источниках поселения, А.Н.Насонов иногда прибегал к методике прежних исследователей: определял местоположение древних объектов по сходству их названий с названиями XIX в. [202] В целом же труд А.Н.Насонова был трудом очень высокого научного уровня. Не случайно, что итоги его историко-географического исследования были приняты крупнейшими советскими учеными, писавшими об эпохе Киевской Руси. В обобщающих «Очерках истории СССР» это сделал академик Б.Д.Греков [203]. В тех же «Очерках...» был помещен краткий обзор территорий древнерусских княжеств в домонгольское время, написанный А.Н.Насоновым [204].
Специальный параграф «Образование территории Русского централизованного государства» появился во второй части «Очерков...». Принадлежал он перу К.В.Базилевича. Раздел содержал характеристику территорий княжеств Северо-Восточной Руси и сопредельных с ними земель с конца XIII по конец XV в. Комбинируя некоторые прежние свои наблюдения, изложенные в учебнике «История СССР», с выводами А.Е.Преснякова и М.К.Любавского, К.В.Базилевич постарался не только конкретно обрисовать географические контуры различных государственных образований на Северо-Востоке, но и проследить за их территориальными изменениями на протяжении двух столетий. Однако многие изложенные К.В.Базилевичем факты были неточны. Исследователь по-прежнему считал Московское княжество выделившимся из Переяславского, писал о ростовских землях, лежавших чересполосно с ярославскими и белозерскими по левому берегу Волги, насчитывал много мелких уделов в Ярославском княжестве XIV в. [205] Неверными были также его утверждения о сильном дроблении в XIV в. Ростовского и Белозерского княжеств, о принадлежности Городца и Нижнего Новгорода во второй половине XIII в. Суздальскому княжеству, о Шуе как одном из центров Нижегородского княжества в XIV в. [206] и т.д.
Основную линию развития государственной территории Северо-Восточной Руси в конце XIII-XV в. К.В.Базилевич оценивал как центростремительную, и с этим нельзя не согласиться. По К.В.Базилевичу, объединительные тенденции нарастают в XIV в. и проявляются двояко: в увеличении территории, подвластной московским князьям, и в ликвидации «феодальной раздробленности в пределах отдельных великих княжеств» [207]. Последнее утверждение было диаметрально противоположно высказываниям В.В.Мавродина об усилении в XIV в. феодального распада во всех княжествах, кроме Московского. Но говоря о первом процессе, К.В.Базилевич не делал различия между территориальными приращениями собственно к Московскому княжеству, становившимися наследственными владениями московских князей, и временным распространением власти последних на другие княжества [208]. В итоге консолидация территории, к чему стремились московские князья, как крупное явление истории представала в упрощенном виде. Что касается второй стороны процесса, то тенденцию к ликвидации внутренней феодальной раздробленности можно заметить только в Тверском княжестве. Остальные примерно с последней трети XIV столетия вступают на путь все более возраставшего дробления территории. Это была другая сторона процесса складывания общерусской государственной территории, которая не нашла своего отражения в концепции К.В.Базилевича.
В последующее время неодинаковая разработанность общих вопросов развития государственной территории на Северо-Востоке в домонгольский и послемонгольский период в советской историографии сохранилась. Если некоторые наблюдения А.Н.Насонова могут быть дополнены и скорректированы на основании монографии Е.И.Горюновой, на археологическом материале разработавшей вопрос об изменении этнической территории в Волго-Окском междуречье примерно до середины XIII в. [209], исследований Б.А.Рыбакова и В.Т.Пашуто по истории Киевской Руси [210], то проблемы эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси в послемонгольский период исследованы явно недостаточно. Даже в таком обобщающем исследовании, как монография Л.В.Черепнина, посвященная образованию Русского централизованного государства, отсутствуют данные о территориях северо-восточных княжеств и их уделов в XIV-XV вв. [211] Таким образом, общее определение территории Северо-Восточной Руси, княжеств, ее составлявших, ее роста или уменьшения, дробления или консолидации под влиянием факторов внутреннего и внешнего развития все еще остается актуальной задачей советской исторической науки.
Это не значит, конечно, что не имело места накопление конкретного материала по исторической географии данных княжеств. Большая работа по определению местоположений различных волостей и поселении Северо-Восточной Руси XIII-XVI вв. была проведена С.Б.Веселовским, М.Н.Тихомировым, А.И.Копаневым, И.А.Голубцовым, Ю.Г.Алексеевым, но исследования этих авторов носили локальный характер, были ограничены определенными временными рамками и не решали проблемы в целом [212].
Не решена она и зарубежной историографией. Там нет ни обобщающих, ни специальных работ, посвященных формированию государственной территории Северо-Восточной Руси. Уровень представлений современных буржуазных историков об этом предмете прекрасно иллюстрируют различные исторические атласы. Так, выдержавший ряд изданий в ФРГ атлас «Народов, государств и культур» дает не только искаженные, а иногда и просто фантастические, неизвестно на чем основанные границы северо-восточных русских княжеств XIII-XV вв., но даже центры этих княжеств помещает далеко не все, а внутреннее политико-административное деление названных государственных образований не отражает вовсе [213]. Такие заблуждения, основанные на незнании или нежелании знать, ведут к искажению действительной истории не только нашей страны, но и всей средневековой Европы в целом. Состояние представлений за рубежом о территориальном развитии Руси в средние века лишний раз свидетельствует о необходимости разработки этого вопроса на современном теоретическом и источниковедческом уровнях.
|
|
|
|
* * *
Обзор работ, прямо или косвенно касающихся вопроса о государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв., достаточно ясно показывает, что сделано в науке по данной теме и что предстоит еще сделать. Последнее определяет задачи настоящего исследования. Они состоят в теоретическом установлении признаков, отличающих государственную территорию от догосударственной и характеризующих качественные и количественные изменения государственной территории; в мобилизации всего фактического материала, проливающего свет на становление и развитие государственной территории Северо-Восточной Руси, в источниковедческой проверке его достоверности и локализации на карте; в определении хронологического рубежа, начиная с которого можно говорить о превращении территории Волго-Окского междуречья в государственную. В задачи работы входит также установление общих размеров этой ставшей государственной территории, ее внутреннего политико-административного развития [214] и внешнего роста; выявление воздействия на ее эволюцию такого фактора, как монголо-татарское завоевание; оценка центробежных и центростремительных тенденций в развитии государственной территории Северо-Восточной Руси на заключительном временном отрезке исследуемого периода, когда все более отчетливо стала проявляться консолидирующая роль Москвы.
Понятно, что для успешного решения всех этих задач необходимо комплексное использование самых разнообразных источников. Какие же типы источников должны быть привлечены при работе над названной темой?
Имеющиеся на сегодняшний день в распоряжении исследователей свидетельства прошлого по данной проблеме делятся на две большие группы: вещественные памятники и письменные источники.
Среди вещественных памятников на первое место, безусловно, должны быть поставлены памятники собственно археологические. В настоящее время без данных археологии невозможно представить себе начальные этапы формирования государственной территории Северо-Восточной Руси. В ее пределах археологическому обследованию подвергаются два основных объекта: могильники и поселения. В подавляющем большинстве случаев это объекты «с ярко выраженными наземными признаками» [215], т. е. сопки, курганы и городища. Грунтовые могильники и неукрепленные селища выявляются с большим трудом, а потому изучены хуже.
Обряд захоронения умерших в определенного типа сопках, а также в курганах был господствующим у восточных славян в период их проникновения в Волго-Окское междуречье и постепенно изживался под влиянием укреплявшегося здесь христианства [216]. Захоронения в сопках и курганах относятся к домонгольскому времени, преимущественно ко второй половине IX-XII в. Для решения вопросов, связанных с возникновением и развитием государственной территории в исследуемом регионе, из археологической характеристики таких захоронений наиболее значимыми представляются данные о погребальном инвентаре и географии самих могильников. Прослеживаемое археологами имущественное неравенство погребенных в целом ряде случаев может быть интерпретировано как неравенство социальное, свидетельство процесса классообразования. География же сопок и курганов указывает, откуда шло заселение Волго-Окского междуречья, в каких местах возникали сгустки населения, где шло выделение знати и очагов властвования, а следовательно, территория каких именно районов ранее всего имела тенденцию превратиться в государственную.
Что касается археологического изучения поселений, то хронологический диапазон его более широк, оно охватывает и послемонгольский период по XV в. включительно. При исследовании государственной территории важнейшее значение приобретает устанавливаемая археологической наукой типология поселений, выделение, особенно для раннего времени, городов, а из сельских поселений - феодальных замков и, что представляется весьма существенным, погостов-центров низших административно-территориальных единиц. Здесь так же, как и при изучении могильников, важна сама география поселений.
Археологическое обследование поселений позволяет выполнить еще одну историко-географическую задачу: точно локализовать пункты, упоминаемые в письменных источниках или в своих названиях повторяющие имена и прозвища лиц, живших в XI-XV вв. Сказанное можно проиллюстрировать одним примером.
В свое время С.Б.Веселовский обратил внимание на названия трех стоявших недалеко друг от друга современных ему подмосковных селений: Акатово, Мешково и Волуево-Покровское. В источниках эти селения упоминались лишь с первой половины XVI в. Принадлежали они представителям московского боярского рода Волуевых. Родоначальником Волуевых был Акатий, живший в первой четверти XIV в. Сопоставляя это имя с названием Акатово, С.Б.Веселовский пришел к выводу, что в районе указанных поселений лежала большая вотчина вероятного боярина Ивана Калиты Акатия [217]. Ее центр исследователь видел в д.Акатово, стоявшей на левом берегу р.Ликовы [218]. Однако, как показало археологическое обследование, на месте этого Акатова нет раннего культурного слоя. Зато выше по р.Ликове, на ее правом берегу, было обнаружено селище, существовавшее с XII в. Проводившая обследование А.А.Юшко сделала естественный вывод, что центром владений Акатия и было это селище [219]. Очевидно, что данные археологии оказываются решающими в тех случаях, когда местоположение поселений по письменным источникам устанавливается несколько приблизительно.
Следует, однако, иметь в виду, что археологические памятники в границах средневековой Северо-Восточной Руси к настоящему времени выявлены далеко не полностью, а среди выявленных многие не изучены [220]. К тому же преимущественное внимание обращается на курганы и поселения домонгольского времени, археологические же объекты второй половины XIII-XIV в. и более позднего времени исследуются значительно меньше. Поэтому при использовании археологии для решения псторико-географических вопросов возникают определенные трудности, но нужно сказать, что потенциальные возможности этой науки здесь огромны и в будущем многие моменты в сложении государственной территории на русском Северо-Востоке должны будут проясниться исключительно благодаря ей.
Помимо собственно археологических, важное значение в раскрытии поставленной проблемы имеют нумизматические материалы. Монеты позволяют более точно датировать археологические комплексы, следовательно, и те явления, которые могут характеризовать территориальные изменения. Топография кладов восточных монет IX в. указывает на древнейшие торговые и колонизационные пути в Волго-Окском междуречье [221]. Места находок кладов золотоордынских монет второй половины XIII-XIV в. определяют примерные южные и восточные границы между владениями Орды и русскими землями того периода [222]. Начавшаяся во второй половине XIV в. денежная чеканка на Руси дает ряд любопытных штрихов для изучения политической географии русского Северо-Востока. Известны монеты, чеканившиеся в Московском, Тверском, Нижегородском, Ростовском и Ярославском княжествах. В последних четырех монеты выпускались непродолжительное время [223]. Тем не менее монеты помогают выявить некоторые удельные центры Тверского княжества, проследить политические судьбы Нижегородского княжества, а московские монеты - определить районы, входившие в состав московских уделов.
Политико-административный статус некоторых территорий Северо-Восточной Руси может быть установлен также с помощью сфрагистических данных. Лучше всего изучены печати домонгольского времени, обнаруженные в разных городах, и печати второй половины XIII-XIV в., найденные в Новгороде Великом [224]. Наибольший интерес представляют княжеские буллы. В центрах Северо-Восточной Руси XI-XIV вв. находки печатей с княжескими именами довольно редки, что объясняется скорее всего худшей археологической исследованностью этих центров по сравнению с Новгородом. Однако и случайные находки здесь печатей проливают свет на изменения государственной территории. Так, обнаружение в Вологде буллы великого князя Владимирского Дмитрия Михайловича Тверского, занимавшего великокняжеский стол в 1322-1325 гг., в сочетании с более ранними показаниями письменных памятников свидетельствует о том, что в указанное время часть вологодских земель оставалась за великими князьями и что утверждения договорных грамот XIII-XIV вв. Новгорода с владимирскими князьями о принадлежности Вологды Новгороду не вполне точны [225].
Наконец, отдельные сведения, касающиеся территории Северо-Восточной Руси, можно извлечь из эпиграфического материала [226]. Места находок некоторых ранних предметов с надписями помогают очертить примерные границы между княжествами, а упоминания в них князей с прозвищами по месту княжений - существование в определенные периоды тех или иных княжеств [227].
Эпиграфические источники служат связующим звеном между памятниками вещественными и памятниками письменными. Последние содержат гораздо больше конкретных сведений, характеризующих сложение и развитие государственной территории Северо-Восточной Руси главным образом в конце X-XIV в. Письменные источники в свою очередь делятся на два больших разряда: нарративные и делопроизводственные.
Среди нарративных источников в первую очередь должны быть названы летописные своды, поскольку для указанного периода наиболее крупные историко-географические факты могут быть почерпнуты почти исключительно из них. До конца 50-х годов XII в. на Северо-Востоке не велось систематического летописания [228]. Поэтому за время с Х по середину XII в. данные о государственной территории Северо-Восточной Руси приходится извлекать из киевских, новгородских, а с 30-40 годов XII в. - и из переяславских (Переяславля Южного) и черниговских летописных сводов, части которых сохранились в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях [229]. Подобные данные за вторую половину XII - начало XIII в. содержит летописание Киева, Переяславля и Чернигова, а летописание Новгорода Великого - за весь подлежащий рассмотрению хронологический период, т.е. до конца XIV в.
На Северо-Востоке в домонгольский период летописание велось во Владимире, Ростове (отдельные летописные записи) и Переяславле Залесском [230]. В послемонгольский период (до конца XIV в.) - в Ростове, Владимире, Твери, Москве, Нижнем Новгороде [231]. В таких центрах северо-восточных княжеств XIII-XIV вв., как Переяславль, Суздаль, Юрьев, Стародуб, Дмитров, Галич, Ярославль, Углич, Белоозеро, Молога, летописной работы, по-видимому, не велось. Во всяком случае, летописание перечисленных княжеств до наших дней не сохранилось, и в источниках нет показаний о его существовании. Таким образом, летописные известия, характеризующие герриторию Северо-Восточной Руси, оказываются различной полноты и подробности уже в силу своего хронологического и географического происхождения.
Другой особенностью летописных известий является то, что в подавляющем большинстве случаев они дошли в составе сводов, значительно более поздних по сравнению с временем, которое описывается в этих известиях. Так, почти все сведения о территориях княжеств XIV в. Волго-Окского междуречье извлекаются из сводов XV-XVI вв. Уже одно это обстоятельство заставляет предполагать редакционную обработку ранних летописных сообщений сводчиками, жившими в другие исторические времена. Поэтому необходим тщательный источниковедческий анализ летописных записей с целью определения полноты и достоверности содержащихся в них фактов о государственной территории Северо-Восточной Руси.
Наконец, на характер таких фактов сильное влияние оказывал сам жанр летописания. «Появление летописных сводов, - писал А.Н.Насонов, - означало появление таких письменных исторических произведений, которые содержали опыт средневекового построения истории государства, народа или народов, опыт построения и истолкования исторического процесса, как его понимали современники» [232]. Русское летописание отразило феодальное, классово-ограниченное истолкование исторического процесса, сведя его к деятельности господствующего класса, главным образом, его верхушки: князей, митрополитов, епископов, бояр. Причем внутренняя политика этих феодальных правителей не интересовала летописцев. Они описывали семейную жизнь князей, их то мирные, то враждебные отношения между собой и т.п. При этом летописание определенного княжества стремилось представить в наиболее выгодном свете деятельность своих властителей, замолчав или же превратно осветив деятельность соседних. Следовательно, летописные своды как источники оказываются ограниченными по своей социальной природе, кругу затрагиваемых вопросов, местной политической тенденциозности. Тем не менее ввиду малочисленности других памятников письменности, особенно для периода X-XIII вв., летописи остаются основным хранилищем фактов, освещающих формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв.
Какие же именно факты историко-географического характера содержат русские летописи? Прежде всего летописные своды дают материал об этническом составе населения Волго-Окского междуречья, указывают на княжеские резиденции, приводят прозвища князей по центрам их княжеств, фиксируют места княжеских захоронений, дают сведения о градостроительной деятельности князей, объектах их военных походов. Такие данные позволяют выяснить, какие княжества существовали в определенные исторические периоды в Северо-Восточной Руси, какие города входили в состав их территорий, наметить динамику крупных территориально-политических сдвигов на протяжении XI-XIV вв.
О внутренней территориальной структуре княжеств сведения в летописях редки. Отмечаются факты раздела территорий между князьями-наследниками, иногда называются города, какими они владели. Последнее позволяет определить удельные территории внутри того или иного княжества. Указания на мелкие административно-территориальные единицы также немногочисленны в летописях. Из летописных описаний военных походов, где часто встречается фраза «пограбиша волости», а также моровых поветрий можно заключить, что по крайней мере в послемонгольский период волость была основной административной единицей для всех княжеств Северо-Восточной Руси. Однако о числе волостей в разных княжествах летописи не сообщают, а названия волостей приводятся в исключительных случаях. Так, до 80-х годов XIV в. в летописях встречаются названия трех московских волостей [233]. Между тем, согласно духовным и договорным грамотам московских князей, их к тому времени было более 70 [234].
Несколько чаще, чем названия волостей, встречаются в летописях названия рек, лесов, местностей и сельских поселений. Обычно такие названия фигурируют при описании военных действий. На их основе можно составить представление, хотя и заведомо неполное, о пространственной протяженности отдельных княжеств.
Совсем малочисленны летописные сведения о границах. Иногда сообщается о повоевании одним князем «порубежных мест» другого, но конкретно эти места почти не указываются. Последнее объясняется не только отсутствием интереса летописцев к подобного рода фактам, но и тем, что в период средневековья многие рубежи на всем своем протяжении строго не фиксировались.
Таким образом, летописные своды содержат преимущественно информацию о княжеских центрах. Данные о территориях княжеств, их границах и существовавших в этих границах поселениях в летописании случайны и редки. В этом отношении летописные сведения могут быть пополнены свидетельствами других нарративных источников.
К их числу относятся такие памятники, как агиографические сочинения. Сохранилось около 40 жизнеописаний князей, митрополитов, епископов, настоятелей монастырей, живших в XI - первой половине XV в. и причтенных русской церковью к лику святых, а также несколько десятков рассказов о печерских подвижниках XI-XIII вв., составивших отдельный сборник-Патерик Киево-Печерского монастыря [235]. Несмотря на абстрактно-трафаретные элементы содержания каждого Жития, на то обстоятельство, что многие Жития писались спустя десятки, а то и сотни лет после смерти святого, те из Житий, которые принадлежали перу современников, сохранили ценные исторические свидетельства. С точки зрения затрагиваемой темы наибольший интерес представляют Жития основателей монастырей. В таких памятниках можно найти сведения о местностях, где основывались монастыри, о соседних селениях, реках, урочищах, о князьях, дававших монастырям льготы. Подобного рода сведения позволяют установить, каким княжествам принадлежали земли, на которых поселялись монахи. Прозвища князей, зафиксированные в Житиях, дают возможность судить о существовании определенных княжеств. Так, в Житии Дионисия Глушицкого содержится уникальное упоминание о князе Юрии Бохтюжском, благодаря чему выясняется, что в конце XIV - первой четверти XV в. в бассейне р.Бохтюги, левого притока р.Сухоны существовало особое княжество.
Отдельные историко-географические факты могут быть
почерпнуты из Посланий и Поучений церковных иерархов. В частности, Поучительное
послание митрополита Алексея 1364
г . всем священникам и прихожанам «предела Новгородского
и Городецьского» сохранило единственное указание на раннюю принадлежность
Городца (Радилова) третьему сыну нижегородского князя Константина Васильевича
Борису, вероятно получившему его по завещанию отца [236].
Гораздо больше сведений о политико-административном делении княжеств, их границах, различных поселениях содержат делопроизводственные источники, в первую очередь акты.
На протяжении 1949-1964 гг. Академией наук СССР были опубликованы, за единичными исключениями, все сохранившиеся на бумаге и пергаменте документы с древнейших времен по начало XVI в. различных центров Северо-Восточной Руси, а также Новгорода, Пскова и Рязани [237]. Издавшие их коллективы историков внесли вклад не только в развитие науки, но и в сокровищницу национальной и мировой культуры, настолько велико значение этих публикаций для разных отраслей гуманитарного знания. Благодаря изданию древнейшего русского актового материала представляется возможным исчерпывающе судить о том, на какой документальной основе должны вестись исследовательские изыскания, в частности относительно территории средневековой Руси.
Подсчеты сохранившихся ранних актов по векам дают следующую картину. См. табл.
Количество древнейших русских актов (до 1 янв. 1501 г .) [a]
|
Публикация |
Общее число актов в издании |
XII в. |
XIII в. |
XIV в. |
XV в. |
|||
|
весь |
I поло- |
сере- |
II поло- |
|||||
|
ГВН и П. |
342 |
8 |
13 |
46 |
60 |
72 |
67 |
76 |
|
ДДГ. [b] |
88 |
- |
- |
17 |
- |
41 |
- |
30 |
|
АФЗ и Х, ч.1. |
186 |
- |
- |
4 |
- |
30 |
- |
152 |
|
АФЗ и Х, ч.2. |
26 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
25 |
|
АСВР, т.1. |
638 |
- |
- |
16 |
- |
225 |
- |
397 |
|
АСВР, т.2. |
484 |
- |
- |
48 |
- |
150 |
- |
286 |
|
АСВР, т.3. [c] |
395 |
- |
2 |
31 |
- |
81 |
- |
281 |
|
Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. |
50 |
- |
- |
1 |
- |
14 |
- |
35 |
|
Голубцов И.А., Назаров В.Д. Акты XV- начала XVI в. Советские архивы, 1970, № 5. |
16 |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
13 |
|
Муштафаров А.В. Вологодская грамота XV в. - Советские архивы, 1974, № 6. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Рыков Ю.Д. Новые акты Спасо-Прилуцкого монастыря XV в. - Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1982, вып.43. |
8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
6 |
|
В С Е Г О |
2234 |
8 |
15 |
163 |
2048 |
|||
|
60 |
618 |
68 |
1302 |
|||||
a.Акты, датируемые каким-либо хронологическим промежутком (например, 1392-1427, 1448-1461, 1450-1486, около 1490-1500-х годов), заносятся в рубрики по ранней дате. В расчет приняты и такие грамоты, достоверность которых сомнительна, за исключением явно подложной грамоты Дмитрия Донского Троице-Сергиеву монастырю. Кроме того, к актам отнесены три нарративных источника, напечатанные в АСВР, т.3.
b. Опубликованные здесь как варианты духовных грамот Ивана Калиты и его сына Ивана Ивановича тексты приняты за самостоятельные акты.
c.Исключены из общего числа грамот этого издания четыре грамоты, ранее опубликованные в "Грамотах Великого Новгорода и Пскова".
Оказывается, в распоряжении исследователей имеется лишь немногим более десятка актов XIII в. и раз в десять больше актов XIV в. Общее число-около 150 документов - настолько невелико что сразу делается очевидной необходимость привлечения актов XV столетия. Их значительно больше - свыше 2000, но в сравнении с количеством документального материала того же времени по истории других стран цифра эта оказывается весьма и весьма скромной [238].
В актах XV в. иногда содержатся прямые или косвенные ссылки
на старину. Так, в завещании 1417
г . великого князя Василия Дмитриевича указано, что
волость Кистьму в Бежецком Верхе приобрел его прадед, т.е. Иван Калита [239]. Однако главное значение актов XV в. для характеристики
более раннего времени в ином. По актам определяется география владений
различных удельных князей XV в., а по владениям ретроспективно
восстанавливается территория удела их предка. Прием ретроспекции оказывается
важным, а иногда даже единственным методическим приемом, позволяющим судить об
изменениях государственной территории на Северо-Востоке в XIII-XIV вв.
Какого же рода данные о государственной территории содержит актовый материал? Прежде всего в актах упоминаются центры политических и административно-территориальных единиц: княжеств, уделов, волостей (княжеские духовные и договорные грамоты, указные грамоты наместникам и волостелям). В духовных грамотах князей московского дома [240] содержатся перечни городов, волостей и сел, составлявших уделы Калитовичей. Территориальные изменения в княжествах и уделах отразились в княжеских договорных грамотах. В этих же грамотах есть сведения о границах между княжествами. Подобного рода данные встречаются в частных актах: разъезжих, меновных и др., но в таких документах фиксировались отдельные точки или небольшие участки государственных рубежей. Княжеские жалованные грамоты, как правило, упоминают ряд поселений, локализация которых дает представление о территории того или иного княжества.
В целом актовый материал много богаче историко-географическими сведениями летописных сводов и других нарративных источников. Это позволяет вести изучение территорий княжеств Северо-Восточной Руси XIII-XIV вв. с гораздо большей степенью подробности. Но разнородность и неравномерность сохранившихся актов русского средневековья делает такое изучение фрагментарным. По актам границы княжеств, уделы, поселения лучше исследуются в отношении княжеств Московского, Тверского, Ярославского, Нижегородского, несколько хуже - относительно великого княжества Владимирского, Белозерского, Стародубского и Юрьевского. За единичными исключениями указанных сведений нет по княжествам Ростовскому, Углицкому, Моложскому, Галицкому и Дмитровскому.
Ценные сведения по истории эволюции государственной
территории Северо-Восточной Руси в XIII-XIV вв. есть в родословных книгах. Как
документы определенного назначения родословные книги начали составляться в
конце XV - начале XVI в. и существовали вплоть до отмены местничества в 1682 г . Книги представляли
собой своеобразные семейно-местнические справочники, касавшиеся служилой
верхушки феодального класса Русского государства конца XV-XVII в. Крупные
феодалы, не служившие московским государям, например отъезжавшие в Литву, в
официальные родословные книги не заносились, и их потомство там не указывалось.
Данное обстоятельство необходимо иметь в виду, чтобы не принимать родословные
книги за полный генеалогический перечень знатнейших русских родов позднего
средневековья.
Генеалогия родов, записанных в книги, составлялась на основании устных фамильных преданий и письменных документов, хранившихся в семейных архивах знати или у московской администрации. Видимо, благодаря родовым преданиям в родословные книги попал целый ряд известий за XIII-XIV вв., не находящих аналогий в других источниках.
Для характеристики территорий княжеств Северо-Восточной Руси XIII-XIV вв. наибольший интерес представляют те разделы родословных книг, где помещены росписи княжеских родов. В книгах обычно даются росписи московских князей (великих и удельных), а также тверских, нижегородских (суздальских), стародубских, ростовских (вместе с углицкими), ярославских (вместе с моложскими) и белозерских [241]. Как видно, не все русские княжеские роды заносились в родословные книги [242].
В имеющихся росписях княжеских родов иногда встречаются очень важные историко-географические свидетельства. Так, в росписи ростовских князей содержится сообщение о разделе в 20-х годах XIV в. территории Ростовского княжества на две половины [243]. В росписи ярославских князей отмечается, что город Романов (современный Тутаев) был основан князем Романом Васильевичем, жившим во второй половине XIV в. [244] Однако такие сведения носят эпизодический характер.
Поэтому более существенными оказываются систематически приводимые в родословных книгах прозвища князей. Прозвища, образованные от географических названий, позволяют судить как о центрах княжеств, так и о бывших в княжествах уделах, причем по прозвищам устанавливаются районы таких уделов. Княжеские прозвища иного происхождения позволяют сопоставлять их с тождественными топонимами, фиксируемыми другими источниками, и тем самым определять географию владений различных княжеских линий.
Отдельные историко-географические свидетельства сохранили
также записи на рукописях XIII-XIV вв. Как правило, такие записи довольно
однообразны по своему содержанию: обычно указываются места переписки книг и
имена писцов или владельцев. Но иногда в записях упоминаются князья, во времена
которых переписывалась та или иная рукопись. Подобные упоминания позволяют
судить о принадлежности мест переписки определенным Рюриковичам и в ряде
случаев ничем не восполнимы. Например, запись на Галицком евангелии 1357 г . содержит важное
свидетельство о принадлежности Галича Мерского московскому великому князю Ивану
Ивановичу. Оно уникально по своему характеру и проливает свет на многократно
дебатировавшийся в исторической науке вопрос о «куплях» Ивана Калиты [245],
Перечисленными типами источников исчерпывается тот круг памятников письменности, которые содержат материал, прямо или косвенно характеризующий формирование государственной территории на Северо-Востоке в X-XIV вв. Несмотря на свое разнообразие, материал этот не слишком богат историко-географическими фактами. Из того же, что есть, многое с трудом поддается изучеиию, в частности локализации. Поэтому необходимо привлечение источников более позднего времени и иного характера.
К такого рода источникам относятся писцовые и межевые книги XVI-XVII вв. Их значение для исследуемой темы определяется тремя особенностями их содержания:
1. наличием полного перечня существовавших в XVI-XVII вв. поселений в рамках бывшей Северо-Восточной Руси XIV в., причем поселений с двойными и тройными названиями, многие из которых идентичны названиям, встречающимся в источниках XIII-XIV вв., что значительно облегчает локализацию древних поселений;
2. фиксацией при валовом описании топонимов, сопоставимых со старинными княжескими прозвищами;
3. фиксацией на территориях бывших самостоятельных княжеств остатков родовых вотчин потомков местных княжеских фамилий.
Две последние особенности названных книг позволяют ретроспективно восстанавливать территории уделов более раннего времени.
Из книг XVI-XVII вв. особое значение имеют книги XVII в., сохранившиеся в подлинниках. Они охватывают основную массу уездов Русского государства XVII в. и составлены в результате систематического описания территории. Книги XVI в. дошли, как правило, в списках XVII в., причем в процессе снятия копий производилась обработка оригинала [246]; уцелели описания отдельных уездов России XVI в., но надо иметь в виду, что писцовые работы нередко имели специальный, а не всеохватывающий характер, поэтому полнота описаний различна [247].
Немаловажное значение в локализации средневековых поселений имеют и Списки населенных мест Российской империи, составлявшиеся в XVIII и XIX вв. Списки XIX в. большинства центральных губерний изданы. Они содержат поуездные перечни населенных пунктов с указанием расположенных рядом водных объектов и расстояний от уездного и губернского городов. К недостаткам Списков, следует отнести иногда наблюдаемые пропуски селений, искажения их названий, неверные определения расстояний до административных центров.
Наконец, при изучении государственной территории нельзя
обойтись без картографических материалов. Преимущественное внимание должно быть
обращено на научно составленные карты и планы. Планомерные инструментальные
съемки начались в России при Петре I. Тогда же стали составляться карты на
математической основе, однако долготу пунктов долгое время определяли в
редчайших случаях [248]. У карт XVIII-первой половины XIX в.
есть и другие недостатки: пропуски населенных пунктов, неточное их нанесение,
отсутствие или искажение названий [249]. Однако эти
недостатки не являются препятствием в использовании карт указанного времени для
локализации древних поселений. Во-первых, ранние карты фиксируют старые
топонимы; во-вторых, большая подробность карт позволяет находить мелкие
географические объекты, фигурирующие в средневековых источниках, например
овраги или озера-старицы, по которым определяется география старинных владений.
С последней точки зрения особенно важны карты Генерального межевания 1762 г . - начала XIX в., но они
не имеют математической основы. По этой и по другим причинам необходимо
анализировать все карты на данную территорию по середину XIX в. включительно.
Только тогда становятся возможными действительно научные локализации
средневековых географических объектов.
* * *
Такие локализации - необходимейший элемент всяких исследований по исторической географии и, конечно, формированию государственной территории прошлого. Они - те первичные историкогеографические факты, без которых невозможны научные выводы и обобщения. Однако локализация географических объектов средневековья, определение их местонахождения по современной карте представляет большие сложности. Древние реки и озера пересыхали, овраги засыпались, поселения прекращали свое существование или переносились на новые места. Менялись названия объектов, иногда - кардинальным образом [250]. Все это создает громадные трудности при локализации географических номенклатур, особенно поселений раннего времени. Положение усугубляется особенностями сохранившихся древнерусских письменных источников, часто содержащих одиночные, без связи с другими, упоминания рек, местностей, урочищ, сел и т.п. Не случайно поэтому, что при поисках средневековых объектов, например новгородских поселений XV-XVI вв., на картах XVIII-XIX вв. удавалось локализовать лишь их часть [251]. Новая методика локализации была предложена М.В.Битовым [252]. Суть ее сводилась к тому, чтобы прослеживать всю историю поселения с момента его первого упоминания до времени составления строго научных карт. Такая методика применена и в настоящей работе. Она весьма трудоемка, требует обработки очень значительного материала различных хронологических периодов, заполнения всех временных лакун в истории поселений. Но реэультаты ее применения говорят сами за себя: удается точно локализовать почти все упоминаемые в источниках поселения Северо-Восточной Руси X-XIV вв. В отдельных конкретных случаях приемы локализации могут упрощаться, но их принцип остается. Очевидно, будущий критический разбор данного исследования покажет, насколько эффективна такая методика, насколько доказательны и прочны полученные с ее помощью выводы.
* * *
Предлагаемая вниманию читателей работа о формировании государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV вв. создавалась в секторе Исторической географии Института истории СССР АН СССР. В течение многих лет автор ощущал постоянную поддержку своих коллег по сектору: Л.Г.Бескровного, Я.Е.Водарского, М.Я.Волкова, А.К.Зайцева, В.М.Кабузана, бескорыстно делившихся своими знаниями и найденными в архивах материалами. Ценные советы и замечания по работе дали В.И.Корецкий, Л.М.Костюхина, В.Д.Назаров, В.Т.Пашуто, В.В.Седов, Б.Н.Флоря. Всем им автор выражает сердечную благодарность.
Особая признательность - А.А.Королевой, взявшей на себя нелегкий труд по выполнению карт для этой книги.
1. Хотя термин «(древне) русский Северо-Восток» и тождественный ему термин «Северо-Восточная Русь» употребляются в литературе по истории нашей страны уже много десятков лет, географически они до сих пор точно не определены. Обычно под Северо-Восточной Русью понимают территорию Волго-Окского междуречья. Такое понимание правильно для древнейшего периода, но тогда к этому району не прилагалось понятие «Русь». Последнее вошло в употребление только после монголо-татарского завоевания. См.: Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - ЛЗАК. СПб., 1908, вып.20, с.328-329. А к тому времени государственная территория здесь вышла далеко за пределы Волго-Окского междуречья. Следовательно, под термином «Северо-Восточная Русь» в разные периоды должны пониматься различные, хотя и частично совпадающие по территории, географические регионы. Характерной чертой этих регионов была их принадлежность одной определенной династии древнерусских князей, именно Юрию Долгорукому и его потомкам. Поэтому под «Северо-Восточной Русью» следует понимать ту конкретную сравнительно компактную территорию с центром в Волго-Окском междуречье, которой владели в определенные хронологические периоды Юрий Долгорукий или его потомство.
2. Ленин В.И Полн. собр. соч., т.39, с.64.
3. Там же, с.67.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.21, с.170.
5. Там же, с.171.
6. Маркс К., Энгельс Ф Соч. 2-е изд., т.46, ч.1, с.464.
7. Там же.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.21, с.170.
9. Там же, с.96.
10. Там же, с.118.
11. Там же, с.170.
12. Там же, с.171.
13. Там же.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.19, с.336.
15. Там же, с.515.
16. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.39, с.68.
17. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.19, с.334; ср.: с.337 (о лесах, захваченных франкскими королями); с.330 (об общинных угодьях в руках шведских королей).
18. Там же, с.331.
19. Там же, с.514.
20. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.21, с.416.
21. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.19, с.338.
22. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.21, с.408-409.
23. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.19, с.338.
24. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, с.9-17.
25. Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962, т.1, с.345-359.
26. Там же, с.352,355-356.
27. Там же, с.352,355. Ср. справедливое замечание Н.М.Карамзина, что «Суздаль и Ростов никогда не назывались Белою Русью». - (Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.2, Примеч.262).
28. Татищев В.Н. Указ. соч., т.1, с.356.
29. Временоисчислительное изъявление о российских князьях, которые княжили в разных княжениях до великого князя Дмитрия Ивановича Донского. - В кн.: Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1902, т.3, стб.593-603.
30. Щербатов М.М. Указ. соч., т.3, стб.533-543; СПб., 1903, т.4, ч.3, стб.713-723.
31. Ср.: «Иван городец, место Влопасня» вместо правильного «(князь великыи) Иванъ Городець в Лопасны мЪсто». - Щербатов М.М, Указ. соч., т.4, ч.3, стб.716; ДДГ, № 11, с.31.
32. Карамзин Н. М. Указ. соч., кн.1, т.1, стб.141.
33. Там же, стб.141-142.
34. Там же, стб.143,144.
35. Там же, кн.1, т.2, стб.14.
36. «.. отечество наше... обязано величием своим счастливому введению монархической власти». - Там же, кн.1, т.1, стб.67.
37. Там же, стб.109.
38. Там же, кн.1, т.2, стб.39.
39. Там же, кн.1, т.4, стб.141.
40. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.2, т.5, стб.2,3; кн.1, т.4, стб.185-186.
41. Там же, кн.1, т.1, примеч.278; т.3, примеч.13,21,41,59,121,154,164,187,366.
42. Там же, т.2, примеч.178 (о Кулачце); т.3, примеч. 154 (о р.Идше), примеч.187 (о р.Сурамле).
43. Там же, т.4, примеч.326.
44.
Погодин М.П. Ярославово деление. Города и пределы первых
русских княжеств. - В кн.: Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о
русской истории. М., 1850, т.4. Здесь же помещены добавления и поправки
Н.И.Надеждина и К.А.Неволина. Впервые под названием «Разыскания о городах и
пределах древних русских княжеств с 1054 но 1240 год» это сочинение было
напечатано в 1848 г .
в Журнале Министерства внутренних дел (ЖМВД, 1848, ч.23,24. В ч.24 - данные о
Ростовской земле).
45. Погодин М.П. Исследования..., т.4, с.146-147,261,291.
46. М.П.Погодин ошибочно локализовал Кулачцу (по его мнению, это р.Колокша) и с.Голубино, местоположение которого Н.М.Карамзин не определял. - Там же, с.267,285.
47. Там же, с.283 (Липицы), 286 (Голубино, Литова, р.Дроздна. Возражения А.Н.Насонова против локализаций этих объектов неосновательны. - Насонов А.Н. Указ. соч., с.184), 290 (Сурамла).
48. Погодин М.П. Исследования..., т.4, с.295-296.
49. Там же, с.326.
50. Там же, с.390.
51. Там же, с.146-147,290. Использовать списки поселений Министерства внутренних дел предложили Н.И.Надеждин и К.А.Неволин, установившие на их основании, где находилась Сурамля (Сурамла).
52. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1959, кн.1, т. 1/2, с.56-58; ср.: Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883, с.186.
53. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.1, т.1/2, с.58.
54. Там же, с.63; ср.: с.68-72,76-77.
55. Там же, с.70; ср.: с.73.
56. Там же, с.62-63.
57. Там же.
58. Там же, с.73-75.
59. См.: Насонов А.Н. Указ. соч., с.10.
60. Соловьев С.М. Указ. соч. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.456-477,670-673 (примеч.158-200).
61. Например, указание на расположение с.Алексина на север от Юрьева (Там же, с.672, примеч.175). На самом деле упомянутое в первой духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича юрьевское село Олексинское стояло к юго-западу от Юрьева (см. ниже, гл.VI).
62. Барсов Н.П. Материалы для историко-географического словаря России. Географический словарь Русской земли (IX-XIV ст.). Вильна, 1865; Он же. Очерки русской исторической географии. География Начальной летописи. Варшава, 1873; То же. 2-е изд., исправленное и дополненное алфавитным указателем. Варшава, 1885.
63. В «Словарь» Н.П. Барсова не попали, например, реки Дубна и Клязьма, упоминаемые в домонгольское время и фигурирующие в «Разысканиях» М.П.Погодина, волость Середокоротна из второй духовной Ивана Калиты, залесский город Ярополч из «Списка городов» и т.д.
64. Так, основание г. Владимира на р.Клязьме Н.П.Барсов приписал Владимиру Святославичу, а не Владимиру Мономаху; с.Голубино он помещал там же, где и М.П.Погодин, не приняв во внимание поправки Н.И.Надеждина и К.А.Неволина; р.Нерль Волжскую он спутал с р.Нерлью Клязьминской, а р.Дроздну - с р.Дрясной в Рязанском княжестве; р.Мерьскую объявил притоком р.Оки, вместо р.Москвы, и т.д. (Барсов Н.П. Материалы для историко-географического словаря..., с.32-33, 52, 134, 68, 123). Приведенные примеры относятся к географическим объектам Северо-Восточной Руси домонгольского времени. Еще больше ошибок допущено Н.П.Барсовым при локализации волостей и поселений XIV в. Странно, что Н.П.Барсов даже не учел тех определений, которые были предложены С.М.Соловьевым в четвертом томе его «Истории России с древнейших времен».
65. Барсов Н.П.Очерки русской исторической географии..., с.49-56, 74-77, 155-157, 175-177, 194-198, 204-205. Во втором издании книги дана более подробная, чем в первом, характеристика древней территории будущей Северо-Восточной Руси.
66. Названия с начальным Вес(ь) Н.П.Барсов считал относящимися к племени весь; с начальным Мер(Нер) - к мери; с Крив - к славянскому племени кривичей и т.п. и по местонахождению таких топонимов определял ареалы расселения племен, хотя, например, название какого-нибудь ручья Кривда вовсе не зависело от племени кривичей. - Там же, с.176.
67. Там же, с.79-81,94,109.
68. Там же, с.17,19,20,80.
69. Там же, с.81-86.
70. Сказанное не зачеркивает достижений Н.П.Барсова в изучении других территорий Киевской Руси.
71. Корсаков Д.А. Меря и Ростовское княжество: Очерки из истории Ростово-Суздальской земли. Казань, 1872.
72. Там же, с.50,52.
73. Там же, с.52. О завоевании славянами территории, населенной мерью, см.: Там же, с.67.
74. Там же, с.66.
75. Там же, с.68,69,71.
76. Там же, с.72-74.
77. Там же, с.106.
78. Там же, с.123.
79. Там же, с.124.
80. Там же, с.123-124.
81. Там же, с.150,161-193.
82. Там же, с.182-183,196 и примеч.4, 169, 177.
83. Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1908, т.2, кн.1, с.855-859, 880-883. Здесь при характеристике территории древнего Ростовского княжества, перечислении выделившихся из него княжеств и их уделов использована в основном работа Д.А.Корсакова, причем в своем изложении В.С.Иконников не всегда делал на нее ссылки.
84. Корсаков Д.А. Указ. соч., с.246.
85. Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб., 1876.
86. Там же, с.14-59.
87. Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. М., 1882, с.22,23-24.,
88. Там же, с.22,26 и примеч.
89. Там же, с.22.
90. Там же, с.24. В.О.Ключевский указывал на несколько путей подчинения городу округи: город завоевывал округу; население округи добровольно подчинялось городу, находя там «убежище и защиту в случае опасности»; иногда имело место и то и другое одновременно. - Там же.
91. Там же, с.23.
92. Там же, с.25.
93. Там же, с.22,25,34.
94.
В издании 1883
г . В.О.Ключевский сам писал о том, что «может показаться
странным такое торговое происхождение русского государства» (Ключевский В.О.
Боярская дума древней Руси. М., 1883, с.35), но тем не менее всячески пытался
сгладить эту странность.
95. Рассуждения о торговом возникновении древнерусского города и последующем завоевании им своего «промышленного округа» нужны были В.О.Ключевскому для объяснения участия «старцев градских» в боярской думе Киевской Руси.
96. Ключевский В.О. Сочинения. М., 1956, т.1, с.354-355.
97.
В.О.Ключевский не указал Городецкого княжества, выделившегося
из состава Владимирского после 1263
г ., и ошибочно приписал Бохтюжское княжество к числу
ярославских уделов. - Там же, с.355.
98. Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957, т.2, с.9-15.
99. Там же, с.19.
100. Сергеевич В.И. Указ. соч.
101. Там же, с.180.
102. Там же, с.184-185.
103. Там же, с.186.
104. Там же, с.186-188.
105. Там же, с.188.
106. Сергеевич В.И. Русские юридические древности. СПб., 1890, т.1, с.3.
107. Это различие учитывала более поздняя буржуазная теория государственного права, определяя государство как «союз, основанный на власти, не вытекающий из кровного родства или родового старейшинства». - Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. СПб., 1903, ч.1, с.65.
108. Сергеевич В.И. Русские юридические древности, т.1, с.11-13,70.
109. Там же, с.37.
110. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1886, вып.1, с.2.
111. Там же, с.4.
112. Там же.
113. Там же, с.7-8.
114. Там же, с.5.
115. Там же, с.6.
116. Там же, с.82.
117. Там же, с.83.
118. Там же, с.85.
119. Там же, с.83,86,85.
120. Ср.: Сергеевич В.И. Русские юридические древности, т.1, с.7, примеч.1; с.9, примеч.1.
121. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.103, 109, 110 и примеч.325; с.111 и примеч.328; с.112, 113, 118 и примеч.351; с.119, 121 и примеч.357; с.168 и примеч.499; с.169 и примеч.502; с.170, 171 и примеч.505; с.172, 189 и примеч.544; с.191, 193, 196-198, 389 и др.
122. Дебольский В.Н. Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник. СПб., 1901, ч.1, с.17; СПб., 1902, ч.2, с.7, 10-11; ч.1, с.4, примеч.1; с.7, примеч.1; ч.2, с.6, примеч.3; с.7, примеч.2; ч.1, с.5; ч.2, с.15, примеч.1 и др.
123. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.3.
124. Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. - Учен. зап. имп. Моск. ун-та. Отд. ист.-филол., 1906, вып.36, с.549-602 и карта (прил.: Материалы по исторической географии Московской Руси. Замосковные уезды и входившие в состав их станы и волости по писцовым и переписным книгам XVII столетия). Некоторые авторские пояснения к «Материалам...» см. во втором издании работы: Готъе Ю.В. Указ. соч. М., 1937, с.370. Сведения о первых упоминаниях волостей и станов у Ю.В.Готье неполны, они основываются преимущественно на данных духовных и договорных грамот московских князей XIV-XV вв. Ср.: Веселовский С.Б. Село и деревня в северо-восточной Руси XIV-XVI вв. М.; Л., 1936, с.18, примеч.2.
125. Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. М., 1909, т.1, с.2-5; с.5, примеч.1; Прил., с.3-63; М., 1912, т.2, карта.
126. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси: Очерки по истории X-XII столетий. СПб., 1909, с.26-27,37.
127. Там же, с. 144.
128. Там же, с.194.
129. Там же, с.193-194.
130. Впрочем, А.Е.Пресняков отрицал наличие единой государственной территории у восточных славян в ранний период их государственности. - Насонов А.Н. Указ. соч., с.12, примеч.2.
131. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.458.
132. Там же, с.48-58,160-282.
133. Ср.: Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Заселение и объединение центра. Л., 1929, с.73.
134. Пресняков А.Е. Образование..., с.53-54, 59-63, 94-98.
135. Там же, с.87-91,117-118.
136. Там же, с.193-194.
137. Там же, с.162, 184, 165, 177, 194, 199-200. Впрочем, А.Е.Пресняков старался объяснить существование такого суверенитета не политико-экономическими причинами, а влиянием древних норм семейного княжеского права. Поэтому отмечаемое им усиление в некоторых княжествах XIV-XV вв. единовластия «в отца место» нельзя принимать за показ всех «объединительных устремлений», как иногда делается в современной литературе. Ср.: Назаров В.Д. Русь перед Куликовской битвой. - Вопр. истории, 1978, № 8, с.106.
138. Пресняков А.Е. Образование..., с.149-150,457.
139. Любавский М.К. Указ. соч., с.2.
140. Издана первая часть работы - «Заселение и объединение Центра». Вторая часть - «Заселение и объединение с Центром территорий Новгорода и Пскова» - осталась в рукописи, хранящейся в ГБЛ. - ГБЛ, ф.369, к.4, д.7.
141. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960, с.77, 79, 99.
142. Любавский М.К. Указ. соч., с.1.
143. Там же, с.3-4; с.35, примеч.5; с.41, примеч.11; с.44, примеч.15; с.62, примеч.6.
144. Там же, с.18-22, 23-28, 35-38, 44-46, 77-78 и др.
145. См., например: Там же, с.56, примеч.13.
146. Там же, с.66-67.
147. Ср. характерное в этом отношении признание М. К. Любавского. - Там же, с.74.
148. Рожков Н.А. Указ. соч., ч.1, с.67, 70.
149. Там же, с.65-70.
150. Там же. с.70.
151. Там же, с.72.
152. Там же, с.71.
153. Там же, с.73.
154. Там же, с.76,79; СПб., 1905, ч.2, вып.1, с.161.
155. Там же, ч.1, с.78-79.
156. Там же, ч.2, вып.1, с.161, 162.
157. Там же, с.159.
158. Там же, с.163.
159. Там же.
160. Там же, с.164-165.
161. Там же, с.181-184.
162. Там же, с.183.
163. Покровский М.Н. Русская история с древнейших Времен. - Избр. произведения: В 4-х т. М., 1966, т.1, с.95-96.
164. Там же, с.96.
165. Там же, с.99.
166. Там же, с.101.
167. М.Н.Покровский писал, что «говорить о едином "русском государстве" в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению... политически древняя Русь знала о киевском, черниговском или суздальском княжении, а не о русском государстве». - Там же, с.207.
168. Там же, с.210-213.
169. Там же, с. 214.
170. Там же, с.227.
171. Там же. М., 1967, т.3, с.27, 38, 41-45.
172. Греков Б.Д. Рабство и феодализм в Киевской Руси. М.; Л., 1934, с.28, 30-31, 35.
173. Там же, с.60. Б.Д.Греков признавал также наличие рабов и рабовладельцев в Киевской Руси. - Там же, с.35, 40, 146.
174. Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М.; Л., 1936, с.13. К этой мысли Б.Д.Греков пришел не сразу. Первоначально под влиянием высказывании ряда своих коллег он склонен был рассматривать Киевскую Русь (в узком понимании этого названия), Новгородскую и Ростово-Суздальскую земли как особые, не связанные между собой государственные образования. См.: Греков Б.Д. Рабство и феодализм..., с.145-148; ср.: с.67, 68-69, 110.
175. Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939, с.26-29, 167-182.
176. Там же, с.26-28,172.
177. Там же, с.167,172.
178. Там же, с.163,169,172-173.
179. Мавродин В.В. Образование Русского национального государства. М.; Л, 1939, с.11.
180. Там же, с.36.
181. Там же, с.64,72.
182. Там же, с.41.
183. Там же, с.48.
184. Там же, с.64,68,71,74,76.
185. Галкин В.А. Суздальская Русь. Иваново, 1939, с.195.
186. Там же, с.73,171-172.
187. Там же, с.172.
188. Там же, с.151-152.
189. Там же, с.151,153, но ср.: с.150.
190. История СССР. М., 1939, с.193,195,196.
191. Там же, с.195.
192. История СССР. М., 1954, т.1, с.131-134.
193. Насонов А.Н. Указ. соч., с.6.
194. Там же.
195. Там же.
196. Там же, с.7,28,29,216.
197. Там же, с.7.
198. Там же, с.219-220.
199. Там же, с.7-8.
200. Там же, с.173-196.
201. Там же, с.195.
202. Там же, с.184 и примеч.4.
203. Очерки истории СССР: Период феодализма IX-XV вв. М., 1953, ч.1, с.75.
204. Там же, с.317-320.
205. Там же. М., 1953, ч.2, с.132,139.
206. Там же, с.132,138.
207. Там же, с.132.
208. Там же, с.132-134.
209. Горюнова Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья. - МИА СССР, М., 1961, № 94. Это единственная обобщающая работа, содержащая характеристику изменений этнической территории в Волго-Окском междуречье в период раннего средневековья. Хотя этническую территорию нельзя отождествлять с государственной, установление ареалов расселения различных народов, в частности славян, помогает определить, из каких центров началось распространение феодального властвования. Впрочем, работа Е.И.Горюновой несколько устарела ввиду исследования новых археологических объектов IX-XIII вв.
210. Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. М., 1964, с.223; История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966, т.1, с.369-371, 614-615 (указанные разделы написаны Б.А.Рыбаковым); Пашуто В.Т. Особенности структуры Древнерусского государства. - В кн.: Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965, с.101-103.
211. Черепнин Л. В. Указ. соч.
212. Веселовский С.Б. К вопросу о происхождении вотчинного режима. М., 1926, Он же. Село и деревня..., Он же. Топонимика на службе у истории. - Ист. зап.. 1945, вып.17; Он же. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947. Т.1; Тихомиров М.Н. Села и деревни Дмитровского края в XV-XVI веке. - В кн.: Московский край в его прошлом. М., 1928, ч.1; Он же. Список русских городов дальних и ближних, - Ист. зап., 1952, вып.40; Он же. Древнерусские города. М., 1956; Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV-XVI вв. М.; Л., 1951; Акты социально-экономической истории Севсро Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. М., 1952-1964. Т.1-3 (комментарии к актам и географические указатели, особенно в т.2 и 3-м); Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. М.; Л., 1966.
213. Volker, Staaten und Kulturen. Ein Kartenwerk zur Geschichte. Braunschweig, 1973, S.39, 49, 58.
214. В книге рассмотрены все княжества Северо-Восточной Руси, которые возникли в ее пределах на протяжении XIII-XIV вв. Исключение сделано для Московского княжества XIV в. Объем материала, характеризующего территориальное развитие этого княжества, настолько велик, что заставляет выделить этот сюжет в отдельную монографию. Однако сделанные на основе его изучения выводы использованы в данной работе.
215. Седов В. В. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (XIII-XV вв.).-МИА СССР, М., 1960, № 96, с. 5.
216. Розенфельдт Р. Л. Древнейшие города Подмосковья и процесс их возникновения. - В кн.: Русский город. М., 1976, с.5-7. Принятие восточными славянами христианства первоначально привело к тому, что трупосожжение в курганах заменилось трупоположением, и с XI в. курганы с трупосожжением уже не встречаются.
217. Веселовский С.Б. Топонимика..., с.41-42; Подмосковье. М., 1955, с.369-370; Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с.231-232.
218. Подмосковье, с.369; Веселовский С.Б. Исследования..., с. 232.
219. Юшко А.А. Историческая география Московской земли (из предыстории с.Битяговского). - КСИА, М., 1976, вып.146, с.71 и рис.1.
220. Ср.: Горюнова Е.И. Указ. соч., карты 2-4. В настоящее время в СССР археологически лучше других изучена Московская область, что наглядно видно из карты 4 монографии Е.И.Горюновой. См. также: Бадср О.Н. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей. - МИА СССР, М.; Л., 1947, вып.7; Богоявленский С.К. Материалы к археологической карте Московского края. - Там же.
221. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья: Домонгольский период. М., 1956; Кропоткин В.В. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей эры. М., 1967.
222. Федоров-Давыдов Г. А. Клады джучидских монет. Основные периоды денежного обращения в Золотой Орде. - В кн.: Нумизматика и эпиграфика. М., 1960, т.1.
223. Орешников А. В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896. Вып.1; Ильин А.А. Классификация русских удельных монет. Л., 1940. Вып.1.
224. Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т.1,2.
225. Янин В. Л. Актовые печати..., т.2, с.13; ГВН и П, № 1-3, 6, 7, 9, 10, 14, 15. Сказанное относится и к грамотам XV в.
226. Все древнерусские точно датированные надписи на различных предметах по XIV в. включительно были изданы Б.А.Рыбаковым (Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI-XIV веков. М., 1964). Позднее Т.В.Николаева опубликовала надписи (с датами и без дат) конца XIV - первой трети XVI в. на различных предметах из городов Волго-Окского междуречья, а также Новгорода, Пскова и Рязани (Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV - первой четверти XVI в. М., 1971; Она же. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976). Таким образом, имеются новые публикации эпиграфического материала Севере Восточной Руси с древнейших времен до 30-х годов XVI в.
227.
Ярким примером последнего являются надписи на нижегородских
мощевиках 1410 и 1414 гг. - Рыбаков Б.А. Из истории московско-нижегородских
отношений в начале XV в. (мощевик княгини Марии 1410 г .). - МИА СССР. М.,
1949, № 12. Правда, пример этот выходит за хронологические рамки настоящего
исследования.
228. Насонов А.Н. История русского летописания XI- начала XVIII в. М., 1969, с.138-139. Отдельные записи летописного характера делались при ростовском Успенском соборе, возможно, уже в первой половине XII в. - Там же, с.119-120, 122.
229. Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв, М.; Л., 1938, с.362-364.
230. Там же, с.364.
231. Там же, с.365-366.
232. Насонов А.Н. История..., с.12-13.
233. ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.89 (Хвольха, видимо, Холохольня), 94 (Перемышль), 132 ([В]охна).
234. См.: ДДГ, № 1-4, 7,8.
235. Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911. Большинство других агиографических сочинений до сих пор не имеет научного издания. Перечень их рукописных списков см.: Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. - ОЛДП. СПб., 1882, вып.81.
236. Невоструев К.И. Вновь открытое Поучительное послание святого Алексия, митрополита Псковского и всея Руси. - Душеполезное чтение, М., 1861,
237. ГВН и П; ДДГ; АФЗ и X, ч.1, 2; АСВР, т.1-3
238.
Так опубликованная небольшая часть архива итальянского
г.Лукки за период с 1260 по 1356
г . составила около 30000 документов. Об этом архиве см.: Inventario del R.Archivio di
stato in Lucca. Lucca, 1876, vol.2, p.295-301 e seg.
239. ДДГ, № 21, с.58.
240.
До времени образования единого Русского государства
(примерно до 1480 г .)
сохранились всего 17 княжеских завещаний, семь из них относятся К XIV в. Все
завещания - великих или удельных московских князей и княгинь (ДДГ, № 1, 3, 4,
8, 12, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 57, 61, 68, 71 под № 1 и З напечатаны четыре
грамоты). Достоверно известно о завещаниях князей других княжеств, но такие
документы не сохранились.
241. Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический источник. М., 1975, прил.
242. В них нет, например, князей дмитровских и галицких.
243. Редкие источники по истории России. М., 1977, вып.2, с.14, 97.
244. Там же, с.28,101.
245. Кучкин В. А. Из истории генеалогических и политических связей московского княжеского дома в XIV в. - Ист. зап., 1974, вып.94.
246. Павлов-Сильванский В.Б. К историографии источниковедения писцовых книг («приправочные книги»). - История СССР, 1976, № 5.
247. Например, так называемые отдельные книги XVI в. содержали описания поместий в каком-либо уезде, которыми наделялись определенные лица.
248. Фель С.Е. Картография России XVIII века. М., 1960, с.27-28 85-86, 91.
249. Последнее особенно характерно для беловых и сводных планов и карт. Примеры искажения названий подмосковных населенных пунктов на двухверстной карте Московской губернии даны С.Б. Веселовским. См.: Веселовский С.Б. Топонимика..., с.28-29.
250. Например, с.Медвежий Угол стало называться Вознесенским - явление так называемого топонимического разрыва.
251. Витов М.В. Северорусская топонимия XV-XVIII вв. - Вопр. языкознания, 1967, № 4, с.76-83.
252. Витов М.В. Приемы составления карт поселений XV-XVII вв. по данным писцовых и переписных книг. - Проблемы источниковедения, М., 1956, вып.6, с.240-245.
|
|
|
|
ГЛАВА ПЕРВАЯ
РОСТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ - ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
ОБРАЗОВАНИЕ СУЗДАЛЬСКОГО КНЯЖЕСТВА, ЕГО ЦЕНТРЫ И ГРАНИЦЫ.
ВЛАДИМИРСКОЕ КНЯЖЕСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII - ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XIII В.
НАЧАЛО ЕГО ФЕОДАЛЬНОГО ДРОБЛЕНИЯ
Земли Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья, с течением времени ставшие географическим ядром русской государственности, а также центром формирования русской народности, были заселены славянами в сравнительно позднее время. Работы археологов выявили три основных направления славянской колонизации этой территории: с северо-запада по рекам Мсте, Мологе, Волге и далее по правым притокам Волги и левым притокам Клязьмы шла колонизационная волна новгородских словен, ославянившейся веси и, возможно, чуди; с запада, с верховьев рек Днепра и Волги сюда двигались смоленские кривичи; со стороны юго-запада и юга по Оке и далее вверх по ее левым притокам расселялись вятичи [1]. Начало проникновения словен в междуречье рек Волги и Оки приходится на рубеж IX и Х вв. [2] Примерно в то же время началась и кривичская колонизация этого региона. Вятичи появились здесь несколько позднее - в конце Х - начале XI в. [3]
Расселение восточных славян в Волго-Окском междуречье происходило в пору существования у них классового общества. Археологическое обследование оставленных славянской колонизационной волной курганов фиксирует наличие в некоторых из них дружинных погребений [4]. Принадлежность последних не только славянам, но и ославянившейся веси, а иногда и скандинавам служит ясным показателем социального расслоения пришлого населения. Об этом же свидетельствуют и богатые женские погребения, отличающиеся от остальных как большим разнообразием погребального инвентаря, так и большими размерами могильных насыпей [5]. В то же время археологические комплексы, оставленные аборигенными насельниками Волго-Окского междуречья, говорят о наличии у них родоплеменных, но еще не классовых отношений [6]. Судя по данным курганных раскопок, расселявшиеся в междуречье Волги и Оки славяне достигли качественно иной стадии общественного развития и их миграция проходила при активном участии, если не руководстве, феодализирующейся знати. Поэтому движение славян на восток в конце I — начале II тысячелетия н.э. нельзя рассматривать как исключительно княжескую колонизацию, на чем пытались настаивать историки XIX, а отчасти и XX в. [7] Нельзя сводить ее и только к бегству рядового сельского населения из районов, где классовые отношения созрели раньше, в частности Новгорода, в места, свободные от феодального принуждения [8]. Во-первых, богатые погребения в Волго-Окском междуречье синхронны рядовым погребениям [9]. Следовательно, знать здесь появилась в то же время, что и простые общинники. Во-вторых, наиболее интенсивный приток сюда населения приходится на XI—XII вв. [10], когда существование феодализма на Северо-Востоке бесспорно. Очевидно, миграция должна объясняться иными социальными причинами, ее необходимо рассматривать как следствие процесса распространения феодальных отношений на новые территории, процесса, в котором основную роль сыграла военно-феодальная верхушка соседних с Верхним Поволжьем областей.
Расселение славян по Волге, Оке и их притокам не сопровождалось завоеванием местного населения. Археологи до сих пор не обнаружили каких-либо признаков разрушения или уничтожения мерянских или балтских сельских поселений и городищ [11]. Мерянские центры продолжали существовать и долгое время после появления славян [12]. Последние первоначально селились на пустых, незанятых местах [13]. Конечно, в скором времени славяне распространили даннические отношения на аборигенное население [14], причем зарождавшаяся местная знать вошла в состав пришлого господствующего класса [15], однако военный захват чужих племен и их территорий здесь не имел места [16].
Инфильтрация славянского населения вместе с военно-феодальной верхушкой в Верхнее Поволжье и Волго-Окское междуречье приходится преимущественно на время, когда уже произошло объединение Киева с Новгородом и образовалось обширное Древнерусское государство [17]. Вновь осваиваемый регион стал частью территории этого государства. Первоначально государственная территория Киевской Руси на Северо-востоке имела, по-видимому, неопределенные, размытые границы и, быть может, только намеки на какое-то внутреннее стихийно сложившееся административное деление, обусловленное сбором дани различными феодальными группами с проживавшего в разных местах населения. Ее основным отличием от догосударственной, племенной территории стали возникшие центры феодального господства и подчинения. Главным из них был Ростов [18].
Хотя Ростов упоминается в статьях 862 и 907 гг. Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, после обстоятельных изысканий А.А.Шахматова стало ясно, что это вставки сводчика начала XII в., основанные на его собственных заключениях [19]. Во втором десятилетии XII в. было сделано и указание на то, что во времена, последовавшие за смертью легендарных Кия, Щека и Хорива, племена мери сидели «на Ростовьскомъ озерЪ» [20]. Последнее название явно «опрокинуто в прошлое». Поэтому относить существование Ростова или целой Ростовской области к IX в., как делают некоторые исследователи, нельзя [21].
Первые достоверные сведения древнерусских письменных
источников о Ростове и Ростовской земле относятся к концу Х в. или началу XI в.
В перечне крестившихся вместе с Владимиром Святославичем его сыновей,
помещенном в Новгородской первой летописи младшего извода, Лаврентьевской и
Ипатьевской летописях под 988
г ., указывается, что Ростов был отдан Владимиром
Ярославу, а после того, как Ярослав перешел на стол в Новгород, Ростов получил
Борис [22].
По мнению А.А.Шахматова, эти сведения о Ростове и княживших там князьях впервые
были внесены в так называемый Начальный свод конца XI в. [23]
Возможно, запись о вокняжении в Ростове Ярослава действительно поздно попала в
летописный текст. Однако вряд ли приходится сомневаться в том, что она отразила
реальную ситуацию [24].
События последующего времени говорят о ближайшем отношении Ярослава к
Ростовской земле. Так, в 1019 (или 1020) г., будучи уже князем Киевским,
Ярослав сослал в Ростов новгородского посадника Константина [25].
Место ссылки было выбрано, возможно, потому, что с Ростовом у Ярослава были
давние связи. Около 1024 г .
в Ростовскую землю приезжал из Новгорода сам Ярослав, усмиряя восстание волхвов
в Суздале и «устави ту землю» [26].
Власть Ярослава над «той землей» установилась не в 20-е и не в 30-е годы XI в.,
а раньше, скорее всего тогда, когда Ярослав был посажен отцом на стол в
Ростове. Наконец, в статье 1071
г ., восходящей к Начальному своду, упоминается город
Ярославль [27].
Зависимость названия города от личного имени очевидна, и скорее всего носителем
последнего был князь. Но до 70-х годов XI в. известен лишь один князь с именем
Ярослав — именно Ярослав Мудрый. Город, о чем говорят и позднейшие местные
предания, основан им [28].
Как тонко подметил М.Н.Тихомиров, само основание Ярославля при впадении
р.Которосли в Волгу было связано с обеспечением пути от Волги к Ростову [29].
Забота о военных и торговых связях Ростова — еще одно косвенное свидетельство
того, что Ярослав княжил в этом городе.
Когда же Ярослав получил Ростов? Очевидно, до 1014 г ., поскольку в том
году Ярослав уже занимал новгородский стол [30].
Отсюда можно заключить, что в начале XI в., а вероятно и в конце Х в., Ростов
уже существовал и был главным городом области. Ее территория в начале XI в.
включала также известные по письменным источникам Суздаль, Белоозеро и
Ярославль.
Посажение Владимиром в Ростовской земле Ярослава нельзя расценивать как начало ее политической самостоятельности. Ростов целиком зависел от Киева. Но появление на Северо-Востоке княжеского стола — показатель роста феодальных отношений в местном крае, распространения здесь феодальных даней, суда и повинностей.
Ярким свидетельством этого процесса является уже
упоминавшееся летописное известие об «уставлении» Ярославом Ростовской земли
после подавления антифеодального восстания в 1024 г . «Уставить» — значит
дать устав или уставы. Какие же уставы дал Ярослав Ростовской земле? Обращаясь
к известным в настоящее время древнерусским княжеским уставным грамотам [31],
аналогию не дошедшим ростовским Ярославовым уставам можно усмотреть, пожалуй,
лишь в Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича 1136/37 г.
местному собору св. Софии, содержащей разверстку дани на определенные
территории [32].
В условиях острого недовольства феодально-зависимого населения Ростовской земли
Ярослав, по-видимому, вынужден был пойти на строгую фиксацию размеров дани.
Фиксация дани должна была сопровождаться точным указанием пунктов, где эта дань
взималась. Уже А.Н.Насонов связывал «уставление» Ростовской земли Ярославом в 1024 г . с организацией здесь
погостов [33].
Мысль А.Н.Насонова представляется вполне вероятной. Во всяком случае, в 70-х
годах XI в. погосты как центры сбора дани в Ростовской земле уже существовали [34].
Таким образом, возникновение древнерусского княжеского центра в Волго-Окском
междуречье, что само по себе свидетельствовало об определенном уровне
стабилизации подвластной этому центру территории, быстро привело к вполне
определенному феодально-административному делению последней, произведенному в
интересах как местной знати, так и знати южной «Русской земли».
Судьба Ростовской земли по смерти Ярослава Мудрого
вырисовывается с трудом. Согласно одной из статей, помещенной под 989 г . в Новгородской первой
летописи младшего извода, своим наследством сыновья Ярослава поделились
следующим образом: «взя болшии Изяславъ Кыевъ и Новъгород и иныи городы многы
Киевьскыя во предЪлех; а Святославъ Черниговъ и всю страну въсточную и до
Мурома; а Всеволод Переяславль, Ростовъ, Суздаль, БЪлоозеро, Поволожье» [35].
Как видно из приведенной записи, Ростовская земля оказалась в руках любимца
Ярослава Всеволода. Это свидетельство, как и сообщения записи о владениях
старших Ярославичей, в целом не противоречит показаниям древнейших источников [36].
Д.С.Лихачев полагает даже, что перечень земель, принадлежавших Изяславу,
Святославу и Всеволоду, отразил сведения Начального свода конца XI в.,
предшествовавшего Повести Временных лет [37].
Однако статьи, в том числе и статья «А се по святомъ крещении, о княжении
КиевьстЪмъ», из которой взят приведенный выше отрывок о разделе Ярославичей,
помещенные в Новгородской первой летописи младшего извода под 989 г ., составлены не ранее
XV в. Поэтому не исключена возможность, что запись о разделении территории
Древнерусского государства между сыновьями Ярослава Мудрого — результат работы
позднейшего книжника, обобщившего материал своих источников. Думается, что
А.Е.Пресняков, считавший эту запись представлением последующих поколений и, во
всяком случае, не разъясняющей перипетий раздела, был ближе к истине [38].
Если не опираться на указание Новгородской I летописи, как
не вполне надежное, то остаются два свидетельства о владельческой
принадлежности Ростовской земли в 60—70-х годах XI в. Это краткая без даты
заметка Владимира Мономаха в своем «Поучении» о поездке в Ростов: «первое к
Ростову идохъ сквозЪ ВятичЪ, посла мя отець, а самъ иде Курьску» [39]
и летописный рассказ о сборе дани: Яном Вышатичем на Белоозере и восстании в
этом районе волхвов, помещенный под 1071 г . в Новгородской I летописи младшего
извода, Лаврентьевской и Ипатьевской летописях [40].
Оба свидетельства настолько отрывочны и неопределенны, что даже такой вдумчивый
интерпретатор источников, как А.Е.Пресняков, вынужден был признать отсутствие
«возможности отчетливо разграничить, территориально и хронологически,
владельческие права Святослава и Всеволода на русском северо-востоке» [41].
Тем не менее нельзя совершенно отказаться от попыток прояснить историю
Ростовской земли во времена Ярославичей.
Относительно даты первой поездки Владимира Мономаха в
Ростов в литературе существуют различные мнения. Так, М.П.Погодин, положивший
начало специальному исследованию «Поучения» Владимира Мономаха, относил эту
поездку к 1066—1075 гг. — хронологически достаточно широкому отрезку [42].
Другие ученые называли различные даты примерно в тех же временных рамках [43].
Но проведенное на новых материалах изучение вопроса подтвердило верность
высказанной еще в 1852 г .
С.М.Соловьевым [44]
мысли о связи первого приезда Мономаха в Ростовскую землю с киевским восстанием
1068 г .
[45]
Тогда 14-летний Владимир по приказу отца укрылся там и от победоносных половцев и от разгневанных киевлян.
Определение даты первого пребывания Владимира Мономаха в
Ростовской земле дает основание считать, что земля эта в 60-х годах XI в.
принадлежала отцу Мономаха Всеволоду Ярославичу, получившему ее во владение,
по-видимому, в 1054 г .,
после смерти своего отца.
Известный летописный рассказ о пребывании Яна Вышатича на
Белоозере и восстании смердов в Ростовском Поволжье также датируется учеными
по-разному. Обычно принято относить сам рассказ и описанные в нем события к 1071 г ., т.е. к тому году,
под которым рассказ помещен в летописях, или ко времени, близкому 1071 г . [46]
Однако летописная статья 1071
г ., восходящая к Начальному своду конца XI в. [47],
явно искусственно объединяет известия не только разного происхождения, но, по-видимому,
и разных годов. Под 1071 г .
читаются следующие друг за другом четыре рассказа о волхвах, действовавших в
Киеве, Поволжье, среди чуди и в Новгороде. Начинаются они с весьма
неопределенного указания на время событий: «в сиа же времена...», «и бывши
единою скудости в РостовьстЪи области...», «в си бо времена и в лЪта...», «сице
бЪ волхвъ въсталъ при ГлЪбЪ в НовЪгородЪ...» [48].
Уточнить их датировку в свое время пытался А.А.Шахматов.
Основываясь на сходных выражениях «в сиа же времена» и «в се же время», которые
встречаются как в статье 1071
г ., так и в более ранней летописной статье 1065 г ., и сопоставив
прорицание киевского волхва, что на пятое лето Русская земля станет на
Греческой, с угрозой киевлян в 1069
г . уйти «въ Гречьску землю», А.А.Шахматов сделал вывод,
что все рассказы о волхвах читались первоначально не под 1071 г ., а под 1065 г . Но почему
впоследствии они попали в статью 1071
г ., оставалось ему неясным [49].
Хотя изложенная точка зрения А.А.Шахматова нашла позднее своих сторонников [50],
ее обоснование не может считаться убедительным. Прежде всего необходимо
отметить противоречие в аргументации самого А.А.Шахматова. Относя все рассказы
о волхвах к 1065 г .,
ученый в то же время считал, что Ян Вышатич, ездивший на Белоозеро «от
Святослава», мог перейти на службу к этому князю только в 1068 или 1069 г . [51]
Сходство выражений «в сиа же времена» и «в се же время» никак не может говорить
о том, что рассказы, в которых встречаются эти выражения, первоначально читались
под одним годом. Второй аргумент А.А.Шахматова весьма остроумен. Прорицанием
волхва он объяснил не совсем ясную угрозу киевлян в 1069 г . уйти в Греческую
землю. По его мнению, «киевляне вспомнили в 1069 году о пророчестве волхва,
предсказавшего, что на пятое лето Русская земля станет на Греческой, и начали
подумывать о том, что им придется последовать этому пророчеству» [52].
Однако угроза киевлян объясняется не воспоминанием о проречении волхва, а
реальной ситуацией, сложившейся в Киеве в то время. Киевляне не без основания
опасались возмездия со стороны Изяслава Ярославича, которого они изгнали осенью
1068 г .
и который весной 1069 г .
вместе с Болеславом Польским шел на Киев, а потому готовились укрыться в
византийских владениях от возможной расправы. Исследователи уже предполагали,
что в Греческую землю хотели уйти киевские купцы, торговавшие с Византией [53].
Их активное участие в движении 1068
г . в настоящее время может считаться вполне доказанным [54].
Следовательно, угроза «ступим въ Гречьску землю» — это вовсе не плод
литературного сочинительства, не воспоминание о словах волхва, а вполне
конкретный факт, объясняемый обстановкой в Киеве в 1068—1069 гг. Падает, таким
образом, и второй довод А.А.Шахматова в пользу датировки рассказов о волхвах 1065 г .
Очевидно, для определения времени событий, отраженных в этих рассказах, следует исходить из других данных.
В свое время А.А.Шахматов был удивлен, почему киевский
боярин Ян Вышатич поступил на службу к князю Святославу Ярославичу, в 1071 г . занимавшему
черниговский стол [55].
Видимо, ему, как и последующим комментаторам рассказа о восстании волхвов в
Ростовской земле, осталось неизвестным интересное соображение С.М.Соловьева.
Считая, что Ян Вышатич проживал в Киеве постоянно, С.М.Соловьев датировал его
поездку на Белоозеро временем княжения в Киеве Святослава [56].
Действительно, в Яне Вышатиче следует видеть того знатного киевлянина Иоанна, о
котором столь подробно повествует Нестор в Житии Феодосия [57].
Согласно Нестору, Иоанн был отцом Варлаама, постриженника Киево-Печерского
монастыря, впоследствии игумена монастыря св.Дмитрия [58].
Пострижение Варлаама А.А.Шахматов весьма обоснованно датирует 19 ноября 1060 г . [59]
Оно падает на время первого княжения в Киеве Изяслава Ярославича (весна 1054 г . — 15 сентября 1068 г .) [60].
Отец Варлаама Иоанн, по выражению Нестора, уже в то время «бЪ прьвыи оу князя
въ болярЪхъ» [61].
Впоследствии у Иоанна сложились хорошие отношения с Печерским монастырем и его
игуменом Феодосием [62].
Сведения об Иоанне Жития Феодосия Печерского любопытно
сопоставить с летописными известиями о Яне Вышатиче. Как и Иоанн, Ян — первый
среди киевских бояр. В 1089 г .
при князе Всеволоде он держал «воеводьство... Кыевьскыя тысяща» [63].
В 1106 г .
Ян—воевода киевского князя Святоподка Изяславича [64].
Источники говорят о близком знакомстве Яна и его жены Марии с Феодосием
Печерским, посещавшим их дом [65].
Почти тождественные имена и совпадение характеристик заставляют видеть в
Иоанне—Яне одно лицо [66].
Это — знаменитый боярин, служивший киевским князьям. Очевидно, что служба
Вышатича князю Святославу не могла быть исключением и должна относиться ко
времени, когда Святослав княжил в Киеве. Киевский стол Святослав занимал с
конца, марта — начала апреля 1073
г . по 27 декабря 1076 г . [67]
Следовательно, поездка Яна Вышатича «от Святослава» на Белоозеро должна
датироваться этим временем. Пребывание его на Белоозере совпало с недородом, «скудостью»
в Ростовской земле. Ло данным дендрохронологии, более или менее значительное
угнетение годовых колец деревьев, произраставших в Белоозере, падает на 1073 г . [68]
Думается, это угнетение следует ставить в связь с упомянутой «скудостью».
Отсюда поездку Яна Вышатича на Белоозеро можно более точно датировать осенью 1073 г .— весной 1074 г .
Если вчитаться в текст рассказа о пребывании Яна в
Ростовской области, то станет очевидным, что не вся эта область принадлежала
киевскому князю. Ян, будучи в Белоозере, узнал, что два волхва и их сторонники,
шедшие от Ярославля, пограбили «лучших» жен в погостах по рекам Волге и Шексне.
И далее в летописи следует весьма важный текст, трактовке которого до сих пор
уделялось недостаточное внимание: «Янь же, испытавъ, чья еста смерда, и
увЪдавши ясно, яко суть князя Святослава, и сице пославши к ним, и рече иже
суть около двою кудесникъ: "Выдайте ми волхва та сЪмо, яко тЪи суть смердЪ
моего князя"» [69].
Из приведенного отрывка видно, что кормленщик Святослава Ярославича не сразу
покарал волхвов, ограбивших и побивших «лучших» жен. Лишь выяснив, что это
смерды его князя, что они подсудны Святославу, он потребовал их выдачи, а затем
жестоко расправился с ними. Подобное определение юридического статуса волхвов
было бы совершенно излишним, если бы вся Ростовская земля и ее население
находились под юрисдикцией Святослава Ярославича. Очевидно, Святослав владел
лишь частью ростовской территории [70].
Последняя очерчивается в летописном рассказе довольно определенно: это
Белоозеро, которое было, по-видимому, центром владений Святослава на
Северо-Востоке, и Ярославль, а также погосты по Шексне и Волге между названными
городами. Не может быть, конечно, случайным то обстоятельство, что названная
территория непосредственно примыкала к землям Новгорода Великого, где сидел сын
Святослава Глеб. Надо полагать, что Святослав получил Бедоозеро с Поволжьем по
какомуто ряду со Всеволодом — отчичем Ростовской земли. Ряд этот следует
отнести ко времени вокняжения Святослава Ярославича в Киеве. Тогда между
братьями, вероятно, произошло перераспределение находившихся в их руках земель:
Святослав, как догадывался еще С.М.Соловьев, отдал Всеволоду свой Чернигов [71],
а также Туров, где в 1076 г .
сидел Всеволодович Мономах [72].
Со своей стороны, Всеволод поддержал притязания Святослава на киевский стол и
Волынь [73],
а также уступил ему северные земли Ростовской области, составившие единое целое
с новгородскими владениями Святослава. Так, по-видимому, следует понимать
сообщение летописи о пребывании на Белоозере Яна Вышатича «от Святослава» в
конце 1073 — начале 1074 г .
Показательна и дата поездки Яна на север. Он отправился туда через несколько
месяцев после вокняжения Святослава в Киеве. Это наталкивает на мысль, что
поездка киевского боярина была не рядовой, а связанной с «устроением»
полученной Святославом территории, с введением там нового управления,
назначением новой южнорусской администрации.
Надо думать, что после смерти Святослава Ярославича Белоозеро и Поволжье вновь оказались в руках Всеволода. Из описания событий 1096—1097 гг. видно, что Ростов, Суздаль и Белоозеро были волостью сына Всеволода Владимира Мономаха, а из письма Мономаха Олегу Святославичу явствует, что сыновья Владимира сидели здесь «хлЪбъ Ъдучи дЪдень», т. е. вся территория считалась принадлежавшей Всеволоду [74].
Во времена киевского княжения Всеволода Ярославича (после 3
октября 1078 г .
и до 13 апреля 1093 г .)
[75]
Ростовская земля своего князя не имела. По-видимому, она управлялась
посадниками киевского князя. Лишь после смерти Всеволода в Ростове сел сын
Мономаха Мстислав. Время его посажепия определяется с некоторым трудом. В
статье «А се (князи. — В.К.) в НовЪгородЪ», приложенной к Новгородской I
летописи младшего извода, имеется следующий текст: «А Святополкъ сЪде на столЪ,
сынъ Изяславль, иде Кыеву. И присла Всеволод внука своего Мьстислава, сына
Володимиря; и княживъ 5 лЪт, иде к Ростову, а Давыдъ прииде к Новугороду
княжить; и по двою лЪту выгнаша и. И прииде Мьстиславъ опять и сЪдЪ в
НовЪгородЪ 20 лЪт; иде Кыеву къ отпю...» [76].
Уход Мстислава из Новгорода в Киев датируется 17 марта 1117 г . [77]
Отсюда и согласно приведенному тексту вторичное вокняжение Мстислава в
Новгороде должно датироваться 1097
г ., княжение Давыда — 1095—1097 гг., а первое посажение
Мстислава на новгородский стол — 1090
г . Однако уход Святополка из Новгорода в Туров относится
к 1088 г .
[78]
Поскольку новгородский стол оказался свободным, следует думать, что посажение
там Мстислава произошло в том же 1088
г . Давыд Смоленский оставил Новгород в начале 1096 г . Тогда же новгородцы
пригласили на стол Мстислава, княжившего в Ростове [79].
Приведенные данные показывают, что хронологические расчеты составителей статьи
«А се (князи. — В. К.) в НовЪгородЪ» не вполне точны. Если все-таки полагать,
что сроки первого княжения в Новгороде Мстислава и княжения Давыда, приведенные
в статье, верны, то уход Мстислава из Новгорода в Ростов надо датировать 1093 г . или началом 1094 г . Какую бы дату ни
принимать при этом [80],
посажение Мстислава в Ростове произошло ранее потери Чернигова Владимиром Мономахом
(24 июля 1094 г .)
[81],
с чем иногда связывают переход Мстислава в Ростов [82].
Надо полагать, что уход Мстислава из Новгорода в Ростов последовал за смертью
его деда Всеволода Киевского, когда на новгородский стол начал претендовать Давыд
Смоленский, брат некогда княжившего в Новгороде Глеба Святославича [83].
Итак, Мстислав княжил в Ростове со второй половины 1093 г . или начала 1094 г . до начала 1096 г . Осенью того же года
он выступил против Олега Святославича, захватившего Ростовскую волость его
отца. Здесь Мстислав оставался до конца февраля 1097 г . [84]
Однако послание Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, написанное в конце
1096 или начале 1097 г .
[85],
свидетельствует, что в Ростовской области «сЪдить сынъ твои хрьстныи с малым
братомъ своимь» [86].
Крестный сын Олега — это сын Мономаха Мстислав, родившийся в 1076 г ., после возвращения
Мономаха и Олега из похода на чехов [87].
Но кто же «малый брат» Мстислава?
На поставленный вопрос существуют два ответа. Один из них
дан В.Л.Яниным [88],
мнение которого принял Н.Н.Воронин [89].
Согласно этому мнению, в Ростове с 1096 г . сидел третий сын Владимира Мономаха —
Ярополк [90].
Такой вывод основан на чисто теоретическом расчете, в свою очередь базирующемся
на признании существования на Руси так называемого «лестничного восхождения»
князей [91]
— юридической нормы, по которой князья занимали столы в порядке своего родового
старшинства, согласованного со старшинством княжений. Наличие такой нормы в
древней Руси довольно долго признавалось русской историографией XIX в. Однако
уже после работ В.И.Сергеевича [92],
М.С.Грушевского [93]
и А.Е.Преснякова [94]
(не говоря о трудах советских исследователей) стало ясно, что норма лествичного
восхождения является чисто кабинетной схемой, порожденной недостаточным
изучением характера междукняжеских отношений на Руси в XI—XII вв. и
некритическим принятием теорий московских книжников XVI в. [95]
Поэтому расчет, ностроенный на неверной теории, примененной к тому же не к
роду, и к отдельной семье во главе с живым отцом, не может быть признан правильным,
как и вытекающий из такого расчета вывод. Кроме того, Ярополка, который был
всего года на три моложе Мстислава, трудно было назвать «малым братомъ»
последнего.
Второй ответ основывается на отыскании среди сыновей
Мономаха именно малолетнего брата Мстислава. У Владимира Мономаха было 8
сыновей. Его первенцем был Мстислав. Вторым сыном — Изяслав, родившийся скорее
всего в начале 1078 г .
и убитый 6 сентября 1096 г .
[96]
Третьим — Ярополк, который после смерти Мстислава в 1132 г . стал князем Киевским
[97].
Четвертым сыном Мономаха был, по-видимому, Вячеслав. В начале 1097 г . он был послав отцом
на Северо-Восток в помощь Мстиславу против Олега Святославича [98].
Пятый сын Владимира Всеволодовича — Святослав. В 1095 г . отец отдал его «въ
тали» половцам, а заложниками обычно отдавали младших сыновей [99].
Шестой сын Мономаха — Юрий, будущий Долгорукий. Младше Юрия был Роман, которого
отец женил в 1113 г .
[100],
тогда как Юрия - в 1108г. [101]
Последний сын Мономаха, Андрей, родился в августе 1102 г . [102]
Следовательно, «малым братом» Мстислава мог быть один из четырех его братьев:
Вячеслав, Святослав, Юрий или Роман. Исследователи останавливали свой выбор на
Юрии [103],
считая вслед за В.Н.Татищевым, что он родился в 1090 г . [104]
Если так, то Юрия, которому ко времени написания Мономахом письма к Олегу
исполнилось 6 лет, действительно можно было назвать «малым братом» Мстислава.
Однако известие В.Н.Татищева нельзя признать достоверным. В 1151 г . Вячеслав
Владимирович говорил своему брату Юрию Долгорукому: «язъ тебе старЪй есмь не
маломъ, но многомъ; азъ оуже бородатъ, а ты ся еси родилъ» [105].
Отсюда вытекает, что Вячеслав был старше Юрия лет на 15—17 как минимум.
Вячеслав мог родиться не ранее 1080
г . В таком случае Юрий родился не в 1090 г ., а около 1095—1097
гг. Иными словами, в 1096 г .
Юрия вообще еще не было на свете или он был пеленочником, которого трудно
видеть в «малом брате» Мстислава, вместе с ним «хлЪбъ Ъдучи дЪдень». Роман
родился еще позже. Поэтому отождествлять «малого брата» можно с Вячеславом или
со Святославом. Подробный летописный рассказ о событиях в Ростовской земле
осени 1096 — зимы 1097 г .
вначале говорит только об одном Мономашиче, действовавшем на Северо-Востоке,
именно новгородском князе Мстиславе. Лишь в конце февраля 1097 г . к нему присоединился
его брат Вячеслав, присланный отцом с Юга [106].
Вместе 27 февраля 1097 г .
они нанесли жестокое поражение Олегу и Ярославу Святославичам «на КулачьпЪ» [107].
Письмо Владимира Мономаха Олегу подтверждает, что первоначально в Ростовской
земле сидел лишь один Мстислав Владимирович. Ссылаясь на полученное от него
послание, в котором сообщалось о гибели Изяслава и которое вызвало послание
Мономаха к Олегу, Владимир Всеволодович писал муромскому князю: «да се та
написах, зане принуди мя сынъ твои, его же еси хрстилъ, иже то сЪдить близь
тобе» [108].
Очевидно, появление «малого брата» Мстислава в Ростовской земле произошло уже
после убийства Изяслава Владимировича.
В этом «малом брате» нельзя не видеть Вячеслава, шедшего с помощью от отца к Мстиславу и, как в свое время догадывался Н.М.Карамзин, везшего письмо от Мономаха к Олегу с мирными предложениями [109]. Переговоры, однако, не состоялись. Дело решилось битвой. Проигравший сражение Олег бежал в Муром, а затем в Рязань. Его преследовал Мстислав, по изгнании Олега из Мурома и Рязани возвратившийся в Суздаль, а оттуда в свой Новгород [110]. Об уходе Вячеслава из Ростовской земли летопись ничего не сообщает. Видимо, после бурных событий 1096—1097 гг. он был посажен Мономахом на ростовский стол. Вячеслав действительно был «малым братом» Мстислава. В то время как Мстиславу шел 21-й год, Вячеслав был еще подростком, ему было самое большее 16 лет.
Летописное описание столкновения Олега Святославича с Мономашичами в 1096—1097 гг. позволяет определить основные центры и примерные размеры Ростовской земли. Наиболее значительными городами области, к которым тянули местные округи, были Ростов, Суздаль и Белоозеро [111]. Рядом с Суздалем находились села, которые переяславский владыка Ефрем передал киевскому Печерскому монастырю [112]. Этот факт свидетельствует о проникновении в конце XI в. на Северо-Восток южнорусских духовных феодалов. В случае военной опасности каждый город области выставлял свой полк, руководимый, по всей вероятности, местной феодальной знатью. По имени главного города вся земля называлась Ростовской [113]. От Муромской земли ее отделяли леса [114]. По-видимому, городов на пути от Мурома до Суздаля в конце XI в. еще не было. Первый город Ростовской земли, который взял Олег, двигаясь из Мурома, был Суздаль. Затем пал Ростов. Захватив всю землю, Олег «дани поча брати» [115]. Надеясь и «Новъгородъ переяти», муромский князь послал своего брата Ярослава «в сторожЪ» на р.Медведицу. Судя по дальнейшему описанию событий, Ярослав стал па устье Медведицы [116]. В сторону Новгорода им были посланы данщики, которых «изъима» воевода Мстислава Добрыня Рагуилович. Следовательно, в конце XI в. территория Ростовской земли по меньшей мере доходила до левого притока верхней Волги р.Медведицы [117]. Возможно, она простиралась и дальше на запад [118]. На юге ростовским было среднее течение р.Клязьмы [119]. Фиксированных границ Ростовская земля в то время, по-видимому, не имела.
Ростовский стол Вячеслав занимал, скорее всего, до 1107 г . Типографская
летопись сообщает под этим годом, что «приидоша Болгаре ратью на Соуждаль и
обьстоупиша градъ и много зла сътвориша, воююща села и погосты и оубивающе
многыхъ отъ крестьянъ. Сущий же людие въ градЪ не могуще противу ихъ стати, не
соущю князю оу нихъ...». В дальнейшем, несмотря на неблагоприятные
обстоятельства, суздальцы сумели отразить нападение: «изъ града изшедше, всЪхъ
избиша» [120].
Известие это, хотя и занесенное на страницы летописи довольно поздно (термин
«Суздальская земля», который фигурирует в рассказе, появляется не ранее 30-х
годов XII в.), тем не менее достоверно [121].
Осада булгарами Суздаля совпадает по времени с крупным походом русских князей
на половцев в августе 1107 г .,
в котором принял участие и сын Мономаха Вячеслав [122].
Такое совпадение можно объяснить тем, что Вячеслав с ростовскими полками был
вызван отцом на Юг и булгары, воспользовавшись отсутствием князя в соседней
Ростовской земле, напали на Суздаль. Следует думать, что военная помощь
«Русской земле» до конца первой четверти XII в. была одним из проявлений
политического господства Юга над Северо-Востоком. Иными словами, верховными
собственниками северо-восточных земель были южнорусские князья. Последнее
выражалось также в праве южнорусских князей на получение дани и суд населения
Ростовской области, как это прекрасно иллюстрирует летописный рассказ о
пребывании Яна Вышатича на Белоозере. Право на дань осуществлялось,
по-видимому, различно. С одной стороны, князья «Руссгой земли» отдавали
подвластные им территории в кормление представителям южнорусской знати (пример
с тем же Вышатичем), с другой — дань с таких территорий поступала
непосредственно на Юг [123].
Строительство южнорусскими князьями на Северо-Востоке городов и церквей
показывает, что от этих князей исходило и наложение соответствующих повинностей
на местное население. Сказанное заставляет признать прекарный характер княжений
в Ростовской земле сыновей Владимира Святославича, Всеволода Ярославича и
Владимира Всеволодовича. Высшая власть принадлежала отцам, княжившим в Киеве,
Чернигове, Переяславле. Факт поездок в конце 90-х годов XI в. и начале XII в. в
Ростовскую землю Владимира Мономаха [124],
думается к сидевшему там Вячеславу, — проявление такой власти.
Последний раз Владимир Всеволодович ездил на Северо-Восток
в 1108 г .
Сам он вспоминает в своем «Поучении»: «По РожествЪ створихом миръ с А(е)пою и
поимъ оу него дчерь, идохом Смоленьску и потом идох Ростову» [125].
Свадьба малолетнего сына Мономаха Юрия с дочерью половецкого хана Аепы
Осеневича состоялась 12 января 1108
г . [126]
Брак преследовал политические цели. Поездка в тот год Мономаха в Ростов была
вызвана скорее всего необходимостью «устроить» землю после булгарского набега в
предшествовавшем году и выделить стол юному зятю половецкого хана. Как показал
А.Н.Насонов, результатом «устроения» явилось основание г.Владимира [127].
Но едва ли можно согласиться с тем, что строительство города на р.Клязьме нужно
было для защиты Суздаля и Ростова от нападений черниговских князей [128].
Предпринятое в 1956—1970 гг. археологическое обследование с.Пирова Городища —
древнего Ярополча — дало материал, свидетельствующий об основании этого города
в начале XII в. [129]
Пирово Городище находится в 5
км к востоку от современного г.Вязники на правом берегу
р.Клязьмы [130],
примерно в 100 км
от впадения в Клязьму р.Перли. Практически одновременная постройка двух
крепостей на р.Клязьме — выше и ниже нерльского устья — преследовала стратегическую
цель: обезопасить Суздаль от нападений не черниговцев, а булгар [131].
Недаром после 1107 г .
булгары уже не используют р.Клязьму в качестве пути военных прорывов на
древнерусский Северо-Восток.
О посажении Владимиром Мономахом Юрия в Ростовской земле
свидетельствует Киево-Печерский патерик: «И бысть посланъ от Володимера
Мономаха в Суждальскую землю сии Георгии, дасть же ему на руцЪ и сына своего
Георгия» [132].
Если не считать приведенного указания о княжении в Ростове Юрия еще при жизни
отца, то древнейшей записью, на основании которой можно прийти к выводу о
существовании у Юрия собственного княжения, служит известие Ипатьевской
летописи под 1126 г .
о присутствии Долгорукого вместе с братьями в Киеве на погребении отца. После
захоронения Мономаха «сынове его разидошася кождо въ свою волость» [133].
Следовательно, у Юрия была «волость». Какая именно — определяется записью
статьи «А се князи русьстии» о создании Юрием во Владимире на Клязьме каменной
церкви св.Георгия «за 30 лЪт до Богородичина ставлениа», т.е. в 1228 г . [134]
Становится очевидным, что волостью Юрия в 20-х годах XII в. продолжал
оставаться Ростов [135].
Симптоматично, что, сажая здесь Юрия, Мономах оставил при нем своего мужа. «Сии
Георгии» Киево-Печерского патерика — это киевский боярин Георгий Шимонович. При
малолетнем князе делами фактически вершил он, осуществляя на Северо-Востоке
политику самого Мономаха. Георгий Шимонович считался ростовским тысяцким, хотя
жил в Суздале [136].
Как сообщает Киево-Печерский патерик, Юрий при жизни отца построил в Суздале
церковь [137].
И позднее Суздаль — резиденция Долгорукого. Очевидно, Мономах, передав
Ростовскую землю сыну, посадил его в Суздале, а главный город области — Ростов
— сохранил за собой. Однако к середине XII в. старшим городом становится
Суздаль. И вся земля начинает называться не Ростовской, а Суздальской [138].
Происходит явная смена центров области. Несомненно, что решающую роль в этом
процессе сыграли «окняжение» Суздаля, аккумуляция здесь феодальной знати,
способствовавшие росту города как средоточию феодального господства над
территорией всей земли. (См. рис. 1).
Рис.1. Ростовская земдя конца XI в.
Развитие и укрепление феодальных отношений на Северо-Востоке явились основной причиной расширения государственной территории Ростовской земли во времена Юрия Долгорукого и его сыновей. Известное значение имела и колонизация. Археологические материалы свидетельствуют о продолжавшемся, причем в более широких масштабах, движении в Ростовскую область кривичей с запада и вятичей с юго-запада [139]. На основании некоторых данных, в свое время приведенных А.Н.Насоновым [140], можно думать, что под влиянием половецкого давления происходил сдвиг населения южнорусских областей к северу. Во всяком случае целый ряд топонимических названий на Северо-Востоке идентичен названиям, встречающимся в «Русской земле»: Переяславлю Южному, стоявшему на р.Трубеже, соответствуют Переяславль-Залесский и Переяславль Рязанский на реках Трубежах. Название правого притока р.Днепра Лыбеди повторяют две реки Лыбеди — во Владимире и Рязани и т.д. [141]
Со смертью Владимира Мономаха прекратилась зависимость Ростовской земли от Южной Руси. Юрий Долгорукий стал суверенным князем. Он — первый самостоятельный князь Ростово-Суздальской «волости». Политическая независимость последней, ее существование как отдельного государственного целого нашли выражение в фиксации и укреплении ее границ с соседними русскими княжествами.
Правда, А.Н.Насонов считал, что даже в 40-е годы XII в.
Ростовская земля еще не освободилась от политической опеки Киева,
свидетельством чего была дань, шедшая из Суздаля на Юг [142].
Опорой для такого вывода послужила фраза из Учредительной (Уставной) грамоты
Смоленской епископии местного князя Ростислава Мстиславича: «Суждали Залесская
дань, аже воротит Гюгри, а что будет в ней, с того святЪи Богородици десятина» [143].
Относя Уставную грамоту к 1151
г ., А.Н.Насонов полагал, что речь в ней идет о дани,
которая издавна взималась с Ростово-Суздальской земли в пользу киевского князя
и которую Юрий Долгорукий в результате столкновений с Изяславом Мстиславичем
Киевским перестал выплачивать в конце 40-х годов XII в. Однако в последнее
время выяснилось, что Уставная грамота Смоленской епископии относится не к 1151 г ., а к 1136 г . [144]
Принимая трактовку А.Н.Насоновым пункта грамоты о суздальской дани, трудно
также понять, почему по меньшей мере десятой частью этой дани распоряжался
смоленский князь, отдавая ее своему кафедральному собору. Допустимо вслед за
А.Н.Насоновым полагать, что «Суждали Залесская» дань шла Ростиславу Мстиславичу
Смоленскому по соглашению с киевским князем Ярополком Владимировичем [145].
Но каким образом эта дань попала в руки Ярополка? Было это традицией или
нововведением? Чтобы ответить на поставленные вопросы, следует обратить
внимание на соглашение, заключенное между Ярополком и Юрием Долгоруким в 1134 г ., за два года до
составления Учредительной грамоты (Смоленской епископии: «Георгии князь
Володимеричь испроси у брата своего Ярополка Переяславль, а Ярополку вда
Суждаль и Ростовъ и прочюю волость свою, но не всю» [146].
Выясняется, что киевский князь действительно имел самое
непосредственное отношение к Ростово-Суздальской земле, но только по «ряду» 1134 г . Поскольку и после
этого соглашения руководящая роль на Северо-Востоке осталась за Юрием Долгоруким
[147],
надо полагать, что в 1134 г .
Юрий передал Ярополку лишь дань с основной территории своего княжества, сохранив
за собой все другие права. В свою очередь Ярополк уступил эту дань Ростиславу
Смоленскому в качестве компенсации за тот «дар» «от Смолиньска», что был
передан в 1132 г .
Ростиславом своему брату Изяславу, видимо, по просьбе Ярополка Киевского [148].
Ведь именно из-за политических комбинаций Ярополка Изяслав лишился перед этим
своего стола в Полоцке [149].
В целом становится очевидным, что «Суждали Залесская» дань, которую одно время
выплачивал Юрий Долгорукий, явилась результатом княжеских компромиссов 30-х
годов XII в. относительно владений различными частями принадлежавшей Мономаху
территории, а не выражением ушедшей в прошлое зависимости Ростовской области от
«Русской земли».
Как сказано было выше, именно при Юрии Долгоруком начинают фиксироваться государственные границы Ростово-Суздальского княжества. Ранее, когда Ростовская земля зависела от Южной Руси, установление твердых границ не имело смысла. Мономах, например, держал Новгород, Смоленск и Ростов своими сыновьями, поэтому четкое размежевание принадлежавших этим центрам земель не было необходимостью для верховной власти [150]. Но когда князья, говоря словами А.Е.Преснякова, из лиц, заведовавших частями общего целого, становились государями «полных, особных владений» [151], вопрос о границах их княжеств вставал со всей остротой. Одна из основных функций феодального государства — расширение своей территории — осуществлялась в таких условиях вполне последовательно и определенно. Следствием междукняжеских столкновений явились фиксация и укрепление границ.
Летописные данные конца 40-х годов XII в. ясно указывают на
существование суздальско-черниговского рубежа. Ею общее направление прекрасно
выяснено в работе A.Н.Насонова [152].
Здесь необходимо привести лишь основные факты, позволяющие составить
представление о границе между Ростово-Суздальским и Черниговским княжествами.
Под 1147 г .
в Ипатьевской летописи упоминается Москва («Московъ»), принадлежавшая Юрию
Долгорукому. Тут он встретился со своим союзником Святославом Ольговичем,
князем Новгород-Северским и Путивльским [153].
Неустойчивость в XII в. названия города — древнейшая форма «Московъ», а также
«Москва» [154],
«Московь» [155],
его второе наименование — Кучково («идоша с нимь до Кучкова, рекше до Москвы» [156])
— свидетельстдуют о сравнительно позднем появлении здесь княжеской крепости [157].
Известия Ипатьевской летописи конца 40-х годов XII в. показывают, что Москва
была порубежным городом, в нескольких десятках километров от которого лежали
черниговские и смоленские земли. Так, под 1146 г . Ипатьевская летопись
упоминает город Лобыньск, стоявший в устье р.Поротвы (Протвы). Лобыньск
принадлежал уже упоминавшемуся Святославу Ольговичу [158].
Недалеко от Лобыньска был расположен Колтеск, другой город Святослава Ольговича
[159].
В вершине треугольника с основанием Колтеск — Лобыньск лежала черниговская
волость Лопасня. Впервые она упоминается под 1176 г . [160]
С.М.Соловьев, а вслед за ним В.О.Ключевский отождествляли центр летописной
волости Лопасни с с.Лопасня XIX в. [161]
М.С.Грушевский и А.Н.Насонов вслед за Н.И.Троицким на основании договорной
грамоты 1381 г .
между Дмитрием Донским и Олегом Рязанским полагали, что старая Лопасня лежала
на правом берегу Оки против впадения в нее р.Лопасни [162].
Однако в договорной грамоте 1381
г . читается «почен Лопастна», т.е. «начиная с Лопастна
(Лопастни)» [163].
Указаний на местоположение волости Лопаспи эта фраза не содержит, скорее всего
здесь имеется в виду река. Волость же Лопасня, как правильно считал еще
Н.М.Карамзин, лежала по р.Лопасне, левому притоку Оки [164],
но вероятнее всего ниже с.Лопасня XIX в. Следовательно, черниговские владения
заходили за Оку. Под тем же 1176
г . упоминается Сверилеск — «волость Черниговьская». До 1176 г . Сверилеск был
захвачен рязанскими князьями, но в 1176 г . отобран назад сыном Святослава
Всеволодовича Черниговского Олегом [165].
В свое время Н.М.Карамзин указывал, что Сверилеск находился на месте села того
же названия, в 60 верстах от Москвы к Серпухову [166].
Это указание неверно. По Списку населенных мест Московской губернии, близ
Серпухова на р.Наре стояла лишь деревня Свирино [167].
Сверилеск получил свое название от реки (черниговцы и рязанпы бились «на
СвирильскЪ»). Поэтому более правы те исследователи, которые отождествляют центр
Сверильской волости с с.Северским при устье р.Сиверки, севернее г.Коломны [168].
В XIV в. этот центр фигурирует, очевидно, как «село на СЪверьсцЪ» в духовных
грамотах Ивана Калиты [169].
По данным того же XIV в., потомку черниговских князей Семену Новосильскому
принадлежала волость Заберег, или Заберега [170].
Как выяснили Ю.В.Готье и М.К.Любавский, эта волость лежала по правому берегу
р.Береги, правому притоку р.Протвы в ее верхнем течении [171].
Заберега являлась, видимо, остатком черниговских владений XII в. по р.Протве.
Верховья Протвы, населенные голядью, согласно известию Ипатьевской летописи под
1147 г .,
принадлежали Смоленску [172].
Таким образом, юго-юго-западные границы Ростово-Суздальской земли определяются
с достаточной степенью точности. Правда, для выяснения их приходится
оперировать некоторыми данными 70-х годов XII в. и даже XIV в., однако они лишь
детализируют свидетельства 40-х годов XII в. Если к тому времени
суздальско-черниговский рубеж уже сложился, то начало его формирования следует
отнести к 30-м годам XII в., когда Юрий и его братья начали ожесточенную борьбу
с черниговскими князьями [173].
Одновременно на западе формировалась граница
Ростово-Суздальской земли с Новгородской. Судя по кресту, поставленному 14 июля
1133 г .
будущим новгородским посадником Иваном Павловичем при впадении Волги в
оз.Стреж, верховья Волги были новгородскими [174].
В 30-е годы XII в. Новгороду принадлежали стоявший на р.Тверце г.Торжок [175]
и Волок Ламский [176].
Ростовская территория в конце XI в. доходила до устья р.Медведицы и, возможно,
распространялась далее к западу. В первой трети XII в. она простиралась,
очевидно, по обоим берегам Волги вплоть до устья р.Тверцы. Судить об этом можно
на основании косвенных данных.
В 1147 г .
Юрий начал войну с Новгородом и захватил Торжок с Поместьем (земли по р.Мете) [177].
За новгородцев вступился киевский князь Изяслав Мстиславич. «Гюргии из Ростова
обидить мои Новгородъ и дани от них отоималъ и на поутех имъ пакости дЪеть»,—
жаловался он [178].
Однако ни переговоры Изяслава с Юрием, ни поход на Суздаль в начале 1149 г . к успеху не привели,
и киевский князь продолжал требовать «всих дании к Новугороду новгородцкыхъ,
ако же есть и переже было» [179].
Только в 1150 г .
Юрий «възъврати всЪ дани новгороцкыи» [180].
Под «новгородскими данями», возврата которых требовал Изяслав, следует понимать
территории Торжка и Поместья, занятые Юрием. С этих территорий дань издавна шла
Новгороду («ако... переже было»). То, что объектами нападения Юрия стали именно
Торжок и Помостье, и то, что он удерживал их за собой в течение почти трех лет,
указывает на соседство этих новгородских волостей с владениями самого Юрия.
Очевидно, район Поволжья далеко на запад от устья р.Медведицы к 1147 г . был уже ростовским.
В первой половине 30-х годов XII в. граничившие с
Новгородом земли Ростово-Суздальской области еще не были укреплены. Во всяком
случае, описания двух походов новгородского князя Всеволода Мстиславича на
Суздаль в конце 1134 г .
никаких ростовских крепостей по Волге и ее притокам не упоминают.
Лаврентьевская летопись в сообщении о первом походе новгородцев говорит, что
они «на ВолзЪ воротишася» [181],
Новгородская I летопись старшего извода уточняет, что новгородцы «воротишася на
ДубнЪ» [182].
Полки Всеволода двигались, следовательно, по Волге и, дойдя до места впадения в
нее р.Дубны, повернули обратно. Пути по Волге и далее по ее правым притокам
вверх были самыми естественными и удобными маршрутами в глубь Ростовской земли.
Одним из них и хотели, видимо, пройти новгородцы осенью 1134 г . Их второй поход
начался 31 декабря 1134 г .
Он закончился 26 января 1135
г . битвой на Ждане горе, в которой новгородцы потерпели
полное поражение [183].
Жданя гора находилась на р.Кубре, притоке р.Нерли Волжской [184].
И на этот раз новгородцы шли, очевидно, по Волге, но затем поднимались вдоль
Нерли. Путь из Новгорода до Ждани горы длиною в несколько сотен верст они
проделали всего за 26 январских дней. Такая быстрота передвижения
свидетельствует о том, что никакого сопротивления новгородской рати на ее пути
к Ждане горе оказано не было. Война 1134—1135 гг. показала незащищенность
владений Юрия Долгорукого на западе. В последующее время суздальский князь
приступил к строительству здесь крепостей.
Под 6642
г . Никоновская летопись сообщает, что «того же лЪта
князь Юрьи Володимеричь Манамашь заложи градъ на усть Нерли на ВолзЪ и нарече
(имя) ему Константинъ, и церковь въ немъ созда; и много каменныхъ церквеи созда
по СуздальстЪи власти» [185].
Обобщенный характер записи заставляет думать, что к 1134 г . она отнесена более
или менее случайно. К тому же почти весь 1134 г . Юрий был на Юге. Прав А.Н.Насонов,
связывая строительство Кснятина с укреплением пути в Ростово-Суздальскую землю
из Новгорода и датируя основание Кснятина временем после возвращения Юрия в
Ростов с Юга в 1135 г .
[186]
События начала 1149 г . показывают, что на границах Ростовской
земли с Новгородской к тому времени был построен ряд крепостей. Как уже
говорилось, зимой 1149 г .
киевский князь Изяслав Мстиславич организовал большой поход на Юрия
Владимировича. В нем приняли участие новгородцы и смольняне. Предполагалось
также участие черниговских князей. Было решено соединиться всем на устье
р.Медведицы [187].
Устье Медведицы принадлежало Ростову, но это было наиболее удобное место
встречи союзников, двигавшихся по Волге (Ростислав Смоленский), Мете и
Медведице (сам Изяслав с новгородцами) и с юга из Черниговской земли.
Черниговские князья в поход так и не пошли. На устье Медведицы соединились
дружины Изяслава и Ростислава. По свидетельству Лаврентьевской летописи, Изяслав
«с Новгородци, дошедъ Волгы и повоевавъ ю и не оуспЪ ничтоже Гюргеви и дошед
Оуглеча поля, поворотися Новугороду...» [188].
Новгородская I летопись дает иную картину событий. Изяслав и новгородцы «мъного
воеваша людье Гюргево и по ВолзЪ възяша 6 городъкъ, оли до Ярославля попустиша,
а головъ възяшя 7000, и воротишася роспутия дЪля» [189].
Наиболее подробное описание похода сохранила Ипатьевская летопись. Согласно
этому источнику, Изяслав с новгородцами подошел к устью Медведицы. Спустя четыре
дня к нему присоединился Ростислав Смоленский. Отсюда союзники двинулись вниз
по Волге и подступили к Кснятину. Не получив никаких известий от Юрия, к
которому они еще раньше отправили своих послов, Изяслав и Ростислав «начаста
городы его жечи и села и всю землю его воевати обаполы Волъгы; и поидоста
оттолЪ на Оуглече поле и оттоуда идоста на оустье Мологы» [190].
Став здесь, братья пустили полки «воевать къ Ярославлю». Дождавшись возвращения
посланных войск, захвативших «полонъ многъ», киевский и смоленский князья из-за
начавшейся распутицы ушли восвояси [191].
Сопоставляя показания трех летописей, можно убедиться в
том, что известие Лаврентьевской летописи наиболее кратко и тенденциозно [192].
Размеры опустошений, произведенных зимой в начале 1149 г . Мстиславичами в
Ростовской земле, в ней явно преуменьшены. Данные Новгородской и Ипатьевской
летописей совпадают между собой и дополняют друг друга. Из Ипатьевской летописи
становится очевидным, что левобережье Волги в районе устья р.Нерли принадлежало
Ростову. Здесь были «городы... и села», которые пожгли Изяслав и Ростислав.
По-видимому, города являлись пограничными крепостцами, поставленными Юрием, а
села — центрами княжеского или боярского землевладения в этом районе.
Новгородская I летопись называет точное число — шесть поволжских городков,
взятых союзниками. Несомненно, что это наиболее значительные ростовские города,
стоявшие на Волге. К их числу могут быть отнесены Кснятин и Угличе Поле,
которые упоминаются в летописных описаниях похода 1149 г ., а также Молога [193].
С какими же пунктами могут быть отождествлены три других города? Судя по тексту
летописей, Ярославль не был взят противниками Юрия. Следовательно, его нельзя
отнести к числу трех неизвестных городов. От Кснятина до Мологи, кроме Углича,
никаких городов на Волге не было и в более позднее время. Очевидно, три
неизвестных города стояли на Волге выше Кснятина. Действительно, здесь были три
города, расположенные близ или при впадении в Волгу трех ее крупнейших притоков:
Тверцы, Шоши и Дубны. Это города Тверь, Шоша и Дубна. Тверь впервые упоминается
в начале 60-х годов XII в. [194],
Шоша и Дубна - почти на полвека позднее [195].
Несомненно, однако, что эти города существовали раньше первого упоминания о них
в письменных источниках [196].
Стратегическое местоположение Твери, Шоши и Дубны, запиравших движение по Волге
и ее притокам в глубь Ростовской земли, указывает на их довольно раннее
возникновение как военных крепостей. Думается, что Тверь, Шоша и Дубна входили
в число тех шести волжских городков, которые были взяты Изяславом и
Ростиславом, точнее, последним при его движении по Волге к устью Медведицы [197].
Во всяком случае, бесспорно то, что к концу 40-х годов XII в. Юрий поставил ряд
городов по Волге и за Волгой, чтобы укрепить порубежные места своего княжества.
Вместе с тем это показатель формирования границы между Ростовской и
Новгородской землями. Таким образом, вопреки существующему в литературе мнению,
относящему формирование границы на верхней Волге между Ростовом и Новгородом к
последней четверти XII - началу XIII в. [198],
граница эта устанавливается в 30-40-е годы XII в., что было связано не только с
распространением здесь ростовских и новгородских даней, но и с теми военными
столкновениями между князьями Новгорода и Ростова, которые начались в 30-е годы
XII в.
Между новгородскими и черниговскими землями лежала
территория Смоленского княжества. С последней на западе граничил Ростов.
Исследователь истории Смоленской земли П.В.Голубовский в свое время высказал
мысль, что с первой половины XII в. шло «постоянное сужение смоленских владений
в пользу Суздальской земли» [199].
Но в обоснование подобного суждения не может быть привлечено ни одного
свидетельства. Не только динамичную, но и статичную границу между Ростовом и
Смоленском в XII в. наметить чрезвычайно трудно. П. В. Голубовский пытался
выявить этот рубеж на основании данных Уставной грамоты Смоленской епископии 1136 г ., духовной Дмитрия
Донского 1389 г .
и некоторых источников XVII в. [200]
Первостепенная ценность привлеченных П.В.Голубовским материалов несомненна,
однако их интерпретация и локализация историком названных там пунктов и
волостей вызывают решительное возражение. Так, к числу можайских (бывших
смоленских) волостей, указанных в завещании Донского, П.В.Голубовский отнес
шесть волостей, которые в самой грамоте 1389 г . причислены не к можайским, а к
«отъездным» волостям [201].
На востоке Смоленского княжества П.В.Голубовский помещал
упомянутые в Уставной грамоте 1136
г . волости Добрятин, Доброчков, Бобровницы, Путтин,
Беницы и Искону [202].
Из предложенных им локализаций бесспорной может быть признана только одна -
Искона, которая лежала, очевидно, по р. Исконе, левому притоку р.Москвы в ее
верхнем течении [203].
Добрятин грамоты П.В.Голубовский видел в с.Добрятине, стоявшем на правом берегу р.Пахры. Однако это село возникло, видимо, только во второй половине XIV в. В первой половине того столетия вместо с.Добрятина упоминается Добрятинская борть [204]. Очевидно, поросшие густыми лесами берега р. Пахры начали осваиваться не в XII, а в XIV в. Весьма искусственно рядом с Добрятиным отыскивал П.В.Голубовский Доброчков, идентифицируя его с позднейшим с.Добриной на р.Истье, и Бобровницы, принимая за них Бобровники XIX в. Боровского уезда [205]. Искусственно потому, что единственным основанием искать Доброчков и Бобровницы по соседству с Добрятиным было их совместное упоминание в Уставной грамоте Смоленской епископии.
Беницы П.В.Голубовский отождествлял с известным в XIX в. с.Беницы на р.Протве [206]. Последнее впервые упоминается в начале XV в. [207] Относилось оно к лужской территории [208]. Лужа была рязанским, а не смоленским владением [209]. Так что и идентификация Бениц П.В.Голубовским оказывается сомнительной. Исследователь, возможно, прав, помещая Путтин на р.Протве, хотя и здесь не все еще вполне ясно. В целом же локализация упоминаемых в Уставной грамоте Смоленской епископии центров и волостей дает довольно слабое представление о восточной части территории Смоленского княжества [210] и, следовательно, о ростовско-смоленском рубеже.
Более ясные понятия о нем можно почерпнуть из данных XIV
в., преимущественно из духовной грамоты 1389 г . Дмитрия Донского. Не входя здесь во все
тонкости определения местонахождений упомянутых в этом источнике можайских
волостей, поскольку подобный разбор занял бы слишком много места, следует
сказать, "что их локализация намечает границу между Московским и
Смоленским княжествами примерно на начало XIV в. по среднему течению р.Рузы,
междуречью Рузы и Исконы к верховьям р.Тарусы - правого притока Нары - и
поперек верхнего течения Исмы - левого притока Протвы. Возможно, что эта
граница XIV в. и была ростовско-смоленским рубежом XII в. Во всяком случае,
локализация Исконы, упомянутой в Уставной грамоте Смоленской епископии, ей не
противоречит.
На время княжения в Суздале Юрия Долгорукого приходится не только фиксация южных и западных рубежей Ростовской земли, возведение поволжских крепостей. В тот же период появился ряд новых городов в ее центре, что должно было повлечь за собой новое административное деление княжества. (См. рис. 2).
Рис.2. Суздальское княжество середины XII в.
Строительство этих. городов связывается с именем Юрия. Под 1152 г . Типографская
летопись, как бы подводя итог строительной деятельности Долгорукого, помещает
список построенных им церквей и городов. Среди последних упоминаются Юрьев
(«Гергевъ»), Переяславль, переведенный Юрием «отъ КлЪщениа», т.е. от оз.Клещино
[211].
Юрьев - это Юрьев Польской на р.Колокше, левом притоке Клязьмы. Примерное время
основания Юрьева выясняется при сопоставлении двух записей о его Георгиевском
соборе. В 1230 г .
юрьевский князь Святослав разрушил старый собор, поставленный Долгоруким [212].
Ростовский свод 1534 г .
сохранил указание, что разрушенный Святославом собор простоял 79 лет [213].
Следовательно, он был построен в 1151
г . К тому времени г.Юрьев уже существовал. Относительно
Переяславля у оз.Клещино трудно сказать, существовал он до Юрия или нет. Во
всяком случае, город у этого озера, судя по тексту Типографской летописи,
назывался Переяславлем. Юрий перевел его на р.Трубеж. Но на месте клещинского
Переяславля осталось поселение, возможно городок, который в списке «А се имена
всЪм градом Рускым, далним и ближним», составленном в 1394-1396 гг., фигурирует
в числе залесских городов как «КлЪщинъ» [214].
О закладке Юрием города Дмитрова на р.Яхроме сообщает уже упоминавшийся Ростовский
летописный свод 1534 г .
Основание Дмитрова связывается с рождением у Юрия сына Всеволода, в крещении
Дмитрия. В его честь яовый город назван Дмитровом. Известие об этом помещено
под 6663 г .,
очевидно ультрамартовским, поскольку следующая запись говорит о смерти Изяслава
Мстиславича Киевского [215],
скончавшегося в ночь с 13 на 14 ноября 1154 г . [216]
Следовательно, г.Дмитров был заложен осенью 1154 г . [217]
В свое время В.Н.Татищев предположил, что Долгоруким были построены также такие города, как Владимир, Ярославль, Кострома, Вышград, Галич, Городец, Добрянск, Дорогобуж, Звенигород, Перемышль, Ростиславль, Стародуб, Углич и Юрьевец [218]. На ошибку В.Н.Татищева указал А.Е.Пресняков, который и выяснил, что же в действительности построил князь Юрий [219]. Тем не менее в литературе продолжает бытовать мнение о чрезвычайно широкой градостроительной деятельности Юрия. Сравнительно недавно было вновь высказано мнение, что Долгоруким построены города Перемышль на р.Моче, Звенигород на р.Москве, Кидекша на р.Нерли Клязьминской, Микулин на р.Шоше и Городец на Волге [220]. Основанием для подобного заключения явилось археологически доказанное существование некоторых из них в XII в. [221] Однако никаких данных об основании или даже укреплении этих городов Юрием Долгоруким нет. О Кидекше есть относящееся ко времени князя Юрия сообщение Типографской летописи. Но там записано лишь о поставлении Юрием церкви «на Нерли святыхъ мученикъ Бориса и ГлЪба» [222]. В XII в. в письменных источниках упоминается и Городец на Волге. Разбор свидетельств об этом городе будет произведен ниже.
При Юрии Долгоруком возникают не только новые города, очевидно новые административные центры, но и появляются первые признаки феодального дробления Ростово-Суздальской земли. Это был общий и почти синхронный процесс для всех княжеств домонгольской Руси, вызванный дальнейшим ростом производительных сил, увеличением населения, усложнением социальных отношений.
В 1148 г .
старший сын Юрия Ростислав жаловался киевскому князю Изяславу Мстиславичу на
отца, который ему «волости не да в Соуждалискои земли» [223].
Свидетельство это весьма симптоматично. Очевидно, Юрий еще при жизни начал
раздавать «грады» "в Соуждалискои земли" своим сыновьям. Пытаясь
закрепиться на Юге, Долгорукий раздавал столы детям и в «Русской земле». Так, в
1149 г .
он посадил в Переяславле Южном своего старшего сына Ростислава, в Вышгороде -
Андрея, Белгороде - Бориса, Каневе - Глеба, Суздаль был отдан Васильку [224].
Однако посажение старших Юрьевичей в Киевщине и Переяславщине не означало их
полного отрыва от Ростовской земли. Сыновья Юрия, видимо, сохраняли свои
волости и на Северо-Востоке. Показателен в этом отношении текст Лаврентьевской
летописи под 1151 г .
Описав разгром Юрия Долгорукого с сыновьями ратью Изяслава Мстиславича и его
союзников на р.Руте, перемирие между противниками у Переяславля и отход Юрия на
р.Альту, летописец сообщает, что Андрей «оттолЪ иде от отца своего Суждалю, а
отцю же встягавшю его много, АндрЪи же рече: "На томъ есмы цЪловали крьст,
ако пойти ны Суждалю". И иде въ свою волость Володимерю» [225].
Следовательно, Андрей, с 1149
г . остававшийся на Юге [226],
сохранил свою волость на Северо-востоке. Его городом был Владимир, данный ему
Юрием, вероятно, до 1148 г .,
когда старший Юрьевич, Ростислав, недовольный разделом отца, ушел от него в
Киев. Выделение г.Владимира Андрею позволяет понять, почему в последующее время
именно Владимир стал стольным городом Боголюбского. Следует отметить, что
Андрей ко времени своего ухода «въ... волость Володимерю» (вероятно, лето 1151 г .) являлся уже старшим
среди своих братьев. Ростислав умер 6 апреля 1151 г . [227]
Тем не менее Андрею Юрий не дал «старшего» города на Северо-Востоке. По разделу
1149 г .
Суздаль (в данном случае это город, а не вся земля) получил самый младший
Юрьевич - Василий. Очевидно, Юрий Долгорукий при распределении волостей на
Северо-Востоке руководствовался политическими соображениями, а не нормой
«родового старшинства», как считают некоторые историки. Хотя Юрий в 1155 г ., став киевским
князем, вновь посадил Андрея в Вышгороде [228],
последний на Юге не остался. В том же 1155 г . «безъ отцЪ волЪ» он ушел «из Вышегорода
в Суждаль», именно во Владимир [229].
Владимир, следовательно, Андрей рассматривал как «свой» город. Но на верховную
власть в Суздальской земле он при жизни отца не претендовал. Кому же тогда
принадлежали или предназначались главные города земли: Суздаль и Ростов? Ответ
на вопрос дает более поздняя летописная статья 1174/75 г. Рассказывая о том,
как после убийства Андрея Боголюбского во Владимир съехались «Ростовци и
Сужьдалци и Переяславци и вся дружина от мала до велика» и решили звать княжить
внуков Долгорукого Мстислава и Ярополка Ростиславичей, летописец сопроводил это
решение своим комментарием: «а хръстнаго цЪлованья забывше, цЪловавше къ Юргю
князю на менших дЪтех, на МихалцЪ и на братЪ его, и преступивше хрестное
цЪлованье, посадиша АндрЪа, а меншая выгнаша...» [230].
Крестное целование дали Юрию не только суздальцы, ростовцы и переяславцы, но и
владимирцы [231].
Выясняется, что Ростов и Суздаль Юрий хотел отдать своим самым младшим
сыновьям: Михалке и Всеволоду, родившемуся 19 октября 1154 г . Номинация Михалки и
Всеволода могла последовать лишь после того, как Юрий выделил их старшим
братьям волости на Юге в 1155
г . [232],
и весьма вероятно, что произошла она после самовольного ухода Андрея в
Суздальскую землю. В таком случае крестоцелование ростовцев и суздальцев Юрию
«на менших дЪтех» должно датироваться временем между осенью 1155 г . (уход Андрея на
Северо-Восток) и 15 мая 1157
г . [233]
(смерть Долгорукого).
Намеченные хронологические рамки можно, кажется, несколько
сузить. Зимой 1155/56 г. Юрий женил своих сыновей Глеба и Мстислава [234].
Браки укрепили политическое положение Глеба на Юге, а Мстислава в Новгороде.
Вероятно, после этих браков Долгорукий и смог приступить к наделению столами на
Северо-Востоке своих младших сыновей. Если так, то последнее произошло между
началом 1156 г .
и 15 мая 1157 г .
На указанный промежуток времени приходится еще одно событие. Как сообщает
Ростовский свод 1534 г .,
в 1156 г .
Юрий укрепил Москву [235].
До сих пор это известие вызывало сомнение как относительно своего содержания,
так и относительно своей хронологии [236].
Но согласованность последней с приведенными выше расчетами заставляет признать
достоверность всей записи свода 1534
г . Очевидно, в первой половине 1156 г . Юрий посетил
Ростово-Суздальское княжество, назначил там себе преемников и заложил «градъ
Москьву» [237].
Скоропостижная смерть Юрия Долгорукого привела к потере
младшими Юрьевичами Ростова и Суздаля. По кончине Юрия «сдумавши Ростовци и
Суждальци и Володимирци вси, пояша АндрЪя сына Дюргева старЪишаго и посадиша и
на отни столЪ Ростовъ и Суждали и Володимири...» [238].
Судя по приведенному выше тексту статьи 1174/75 г., в посажении Андрея
принимали участие и переяславцы. Иными словами, Андрей был выбран князем всей
земли во главе со «старшими» городами. На Юге братья Андрея, посаженные там
Юрием, после смерти отца быстро лишились своих владений [239].
Лишь Глеб Юрьевич крепко держался за Переяславль Русский [240].
Сидевший в Новгороде при Юрии его сын Мстислав в 1157 г . был изгнан
новгородцами [241].
Вновь посаженный там Андреем, он был лишен стола в июне 1161 г . и снова ушел в
Суздальщину [242].
Во второй половине 1161 г .
там собрались почти все Юрьевичи: Мстислав, Василько, Ярослав, Святослав; Михалко
и Всеволод, по-видимому жившие тут с 1156 г ., а также два сына старшего Юрьевича
Ростислава - Мстислав и Ярополк [243].
Эта концентрация отчичей Ростово-Суздальской земли не могла не показаться
опасной старшему Андрею, сравнительно недавно лишившему Михалку и Всеволода их
владений. И Андрей решается на крутой, но последовательный шаг. В 1161 г ., по свидетельству
Ипатьевской летописи, он «братью свою погна Мьстислава и Василка и два
Ростиславича, сыновца своя, мужи отца своего переднии». «Се же створи, -
добавляет летописец, - хотя самовластець быти всЪи Суждальскои земли» [244].
Изгнанными оказались не только Мстислав и Василько, но и Михалко со Всеволодом [245].
Хотя с Андреем остались его братья Ярослав и Святослав и некоторые «мужи
отца... переднии» [246],
владельческая и политическая целостность Суздальской земли была сохранена.
Ярослав действовал вместе с Андреем [247],
а когда умер, то был похоронен во владимирском Успенском соборе [248],
из чего следует, что собственного княжества у этого Юрьевича не было.
Святослав, которому, согласно летописи, из-за болезни «не да... богь княжити на
земли», был похоронен в Суздале [249].
Приведенная фраза показывает, что Суздаль не являлся его отчиной. Видимо, в его
распоряжении были какие-то подгородные суздальские села. Одним таким селом -
Кидекшей [250]
- овладел, судя по всему, другой брат Андрея - Борис. Он, его жена, а в начале
XIII в. и их дочь были похоронены в кидекшской церкви Бориса и Глеба [251].
Связь обоих Юрьевичей с Суздалем предоставляется симптоматичной. Можно думать,
что Андрей сознательно дробил Суздаль и его округу, стремясь политически
ослабить возросшее при отце суздальское боярство. Характерно, что Суздаль,
стольный город Юрия, при Андрее и после него уже никогда не играл
главенствующей роли на Северо-Востоке.
При Андрее Боголюбском территория Владимиро-Суздальского княжества заметно распространилась к востоку и в направлении Подвинья (Заволочья) [252]. В Подвинье ростовцы, как показал А.Н.Насонов, столкнулись с новгородцами, выходившими к верховьям Северной Двины с севера [253]. Уже в первой половине XII в. по левому притоку Двины р.Baгe и ее притокам Веле, Пуе, Кокшенге стояли новгородские погосты [254]. С верховьев Ваги новгородцы проникли на р.Сухону [255]. Здесь, как отметил А.Н.Насонов, был расположен их погост «у ВЪкшензЪ» [256]. Продвигаясь вверх до Сухоне по ее правобережью (левый берег был занят ростовцами), новгородцы вышли к рекам Вологде и Тошне [257].
На верхней Двине, в низовьях Сухоны и бассейне р.Юга
ростовцы должны были встретить сильных соперников и в лице волжских булгар. По
свидетельству Абу Хамида ал-Гарнати (его сведения следует отнести к 30-40-м
годам XII в. [258]),
булгары взимали дань (харадж) с веси и вели оживленную торговлю с Югрой [259].
В 1219 г .
булгары захватили ростовский г.Устюг [260].
Эти факты свидетельствуют о том, что в XII - начале XIII в. Волжская Булгария
проявляла значительный интерес к племенам, населявшим огромное пространство от
Белого озера на западе до рек Печоры и Оби на востоке. Проникая в Подвинье, а
также осваивая территории по нижнему течению Клязьмы и Оки, князья
Ростово-Суздальской земли (со времен Андрея Боголюбского ее правильнее называть
Владимиро-Суздальской) вторгались в сферу влияния Булгарского государства. И не
случайно, конечно, что с 60-х годов XII в. начинается целая день походов
владимирских князей на булгар, походов, прекратившихся лишь накануне Батыева
нашествия.
Правда, существуют мнения, что продвижение ростовских даней
в Заволочье и в Среднее Поволжье началось еще при Юрии Долгоруком. Оба вывода
построены на единичных фактах. Так, А.Н.Насонов обратил внимание на сообщение
Новгородской I летописи о столкновении между новгородскими и суздальскими
данщиками в 1149 г .:
«идоша даньници новгородьстии въ малЪ; и учювъ Гюрги, оже въ мале шли, и посла
князя Берладьскаго съ вои, и бивъшеся мало негде, сташа новгородьци на островЪ,
а они противу ставше, начаша городъ чинити въ лодьяхъ; идоша новгородьци к нимъ
на третии день, и бишася; и много леже обоихъ, нъ суждальць бещисла» [261].
Исследователь с большой осторожностью отнес описанное сражение к Заволочью [262].
Но если вспомнить, что именно в 1147-1150 гг. Юрий удерживал за собой
«новгородские дани», т.е. Торжок и Поместье, то в указанных событиях
правдоподобнее видеть столкновение на западных-границах Ростова с Новгородом.
Последнее прямо подтверждается записью в Софийской I летописи старшего извода,
уточняющей, что новгородские данщики «идоша... на Суздаль» [263].
Таким образом, поражение суздальцев в 1149 г . нельзя расценивать как свидетельство их
проникновения в Подвинье. Второй вывод зиждется на утверждении, что Юрием
Долгоруким был поставлен Городец Радилов на Волге [264].
Как будет показано ниже, такое утверждение ошибочно. Против обоих мнений
говорит и характер русско-булгарских отношений первой половины XII в.
Проникновение ростово-суздальской дани на Среднюю Волгу и в верховья Северной
Двины вело к неминуемой борьбе с Булгарией. Но с начала политической
независимости Суздальского княжества нет никаких признаков активной политики
Юрия в отношении своего восточного соседа. Поход булгар 1152 г . на Ярославль [265]
так и остался без ответа. Довольно многочисленные известия о градостроительной
деятельности Долгорукого, о возведении им крепостей и церквей ничего не говорят
о городах, расположенных восточное р.Нерли Клязьминской, которые прикрывали бы
территорию княжества от вторжений с востока. Очевидно, более занятый русскими
делами, воевавший то с Черниговом, то с Новгородом, то с Киевом, Юрий был не в
состоянии вести борьбу на востоке с сильной Булгарской державой. Положение
изменилось, когда преемник Юрия Андрей отказался от широких южнорусских планов
своего отца.
В 1164 г .
им был предпринят большой поход на Булгарию. Русские полки взяли пять булгарских
городов, в том числе Бряхимов на Каме [266].
По свидетельству одного памятника XII в., Андрей «положи землю ту пусту, а
прочий городы осади дань платити» [267].
Можно думать, что территория Булгарского государства, на которую распространилась
русская дань, непосредственно примыкала к владениям Боголюбского. На булгар
Андрей в 1164 г .,
судя по участию в походе муромского князя, двигался от г.Владимира Клязьмою и
затем Окой до Волги. В нижнем течении Клязьмы стоял город Гороховец, названный
в статье 1239 г .
Лаврентьевской летописи «градом святой Богородицы», т.е. владимирского
Успенского собора [268].
Известие 1158 г .,
перечисляющее владения этого собора, еще не знает принадлежавших ему города или
городов [269].
Но под 1175 г .
упоминается город, который Андрей дал владимирской церкви св.Богородицы [270]).
Возможно, что Гороховец и был основан между 1158 и 1174 гг. [271]
Вероятно, он служил уже сборным пунктом при организации похода 1164 г . Гороховец был
пограничным городом. Рядом лежали владения мещеры. Здесь па правой стороне Оки
несколько ниже устья Клязьмы стоял городок Мещерск, нынешний Горбатов [272].
Гороховец не случайно был отдан владимирским клирикам. На главный собор
княжества перелагались заботы по охране пограничной земли. Соборный причт
должен был решать и задачи христианизации местного края.
Основной базой для походов владимиро-суздальских князей на
волжских булгар в последующее время служил Городец Радилов иа Волге. Впервые он
упоминается под 1172 г .
[273]
Вероятно, этот город был построен после похода 1164 г . Археологический
материал подтверждает, что Городец основан во второй половине XII в. [274]
Несмотря на это, А.Ф.Медведев, производивший здесь раскопки, считает, что
Городец был заложен в 1152 г .
Юрием Долгоруким. Исследователь опирается на текст поздней Супрасльской
летописи: «Борись Михальковичь, сынь брата Андреева, Всеволожя и сына город
Кидешьку, тон же Городець на ВолъзЪ» [275].
Сообщение довольно туманное. Борис Михалкович, которого А.А.Шахматов
предположительно принимал за сына Михалки Юрьевича [276],
другим источникам неизвестен. Но даже если считать сообщение об укреплении
Кидекши и Городца достоверным, нет никаких оснований приписывать это
строительство Юрию Долгорукому. Супрасльская летопись совершенно определенно
относит возведение обеих крепостей ко времени его внука. Откуда же появилась
дата 1152 г .?
Оказывается, она совершенно искусственно была выведена нижегородскими
историками церкви. Отправной точкой послужила потеря Юрием Долгоруким в 1151 г . Городца Остерского
близ Киева. Вынужденный вернуться в Суздальскую землю, Юрий, по мнению этих
историков, тут же заложил Городец на Волге в «воспоминание» утраченного южного
Городца [277].
Нечего и говорить, что никакой фактической основы такое заключение не имеет. На
самом деле Городец был основан между 1164 и 1172 гг. Как отметил А.Н.Насонов,
значение Городца определялось еще и тем, что он препятствовал свободному
плаванию судовой булгарской рати вверх по Волге [278].
События второй половины 60-х годов XII в. свидетельствуют о
проникновении владимиро-суздальской дани далеко на северо-восток. В 1166 г . сын Андрея
Боголюбского Мстислав ходил «за Волокъ», т.е. в земли, прилегавшие к Северной
Двине [279].
Спустя три года здесь произошло столкновение между новгородцами и суздадьцами.
Новгородцы разгромили высланный против них Андреем Боголюбским отряд и взяли
дань не только на своих, но и «на суждальскыхъ смьрдЪхъ» [280].
Следовательно, в 60-е годы XII в. в Заволочье уже существовали поселения,
жители которых платили дань князю Владимиро-Суздальской земли. Возможно, тогда
же владимирцы продвинулись на север до оз.Лаче [281].
Убийство Андрея Боголюбского (не без связи с восточной
политикой этого князя) [282]
повлекло за собой кратковременную, но бурную борьбу младших Юрьевичей Михалки и
Всеволода со своими племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичами за столы
на Северо-Востоке. Перипетии этой борьбы достаточно известны. «Смута» привела к
разделению Ростово-Суздальской земли. Осенью 1174 г . Мстислав Ростиславич
сел в Ростове, а его брат Ярополк - во Владимире [283].
Властвование Ростиславичей кончилось быстро. Уже 15 июня 1175 г ., потерпев поражение
от дядей под Владимиром, они бежали: Мстислав - в Новгород, а Ярополк - в
Рязань [284].
После победы над Ростиславичами владимирский стол занял
Михалко Юрьевич, титуловавшийся великим князем «всея Ростовьскыя земли» [285].
В Переяславле-Залесском он посадил брата Всеволода [286].
Если политическое единство Владимиро-Суздальской земли сохранилось, Михалко и
Всеволод действовали заодно [287],
то владельческая целостность территории была нарушена. Впрочем, это
продолжалось недолго. По смерти Михалки (19 июня 1176 г . [288])
во Владимире сел Всеволод, которому пришлось выдержать ряд столкновений с
Ростиславичами и их союзниками. Но после решительной победы над ними у
Прусковой горы 7 марта 1177 г .
[289]
Всеволод прочно утвердился на владимирском столе, став единственным
«самовластием» на Северо-Востоке.
При Всеволоде Большое Гнездо не только возросло значение
Владимиро-Суздальской земли, укрепился авторитет ее князя в общерусских и
международных делах, но и значительно расширилась территория области,
усложнилась ее административная структура. Любопытно, однако, что все сведения,
за единственным исключением, о новых городах, появившихся при Всеволоде,
относятся не ко времени его княжения, а к первым семи годам, последовавшим за
его смертью. Под 1178 г .
сообщается о строительстве Всеволодом г.Гледена (Устюга) [290],
под 1213 г .
упоминаются Кострома, Нерехта и Соль Великая [291],
под 1216 г .
- Зубцов на Волге [292],
под 1219 г .
- Унжа [293].
В указанный семилетний период между сыновьями Всеволода развернулась
ожесточенная борьба за отчины, вызвавшая пристальное внимание летописцев,
которые при описании всех ее перипетий походя сообщали и о городах, захваченных
князьями друг у друга. Поэтому нельзя считать, что шесть из перечисленных выше
городов появились при преемниках Всеволода. Зубцов, Кострома, Унжа и другие
несомненно возникли при Всеволоде, т.е. до 1212 г . Несмотря на явную
случайность упоминаний, приведенный список городов довольно характерен. Он ясно
показывает, что при Всеволоде территория его княжества несколько увеличилась на
западе (Зубцов) и интенсивно росла в северо-восточном и восточном направлениях.
Последнее было связано с активным наступлением Всеволода на Волжскую Булгарию.
В 1183 г .
им был организован грандиозный поход на булгар. Помимо самого Всеволода,
собравшего полки со всех своих земель [294],
в нем приняли участие Владимир, сын киевского князя Святослава, к которому
Всеволод специально посылал за помощью [295],
брат переяславского (южного) князя Изяслав Глебович, сын смоленского Давыда
Ростиславича Мстислав, муромский и рязанские князья [296].
В двух сражениях русские рати разгромили булгар (по сообщению Ипатьевской
летописи, их было убито 3,5 тыс. [297]),
осадили главный булгарский город Великий, но взять его так и не смогли [298].
С булгарами был заключен мир, правда ненадолго. Через два года Всеволод вновь
послал «на Болгары воеводы своЪ с Городьчаны, и взяша (села) многы и
възвратишася с полоном (многим)» [299].
Участие в походе 1183 г .
белозерского полка Всеволода [300]
как будто свидетельствует о возросшем значении для Владимиро-Суздальской земли
волжского пути вниз от Ярославля к Городцу Радилову. Таким путем, вероятно,
двигался белозерский полк. Здесь появляется новый волжский город - Кострома [301]
Городец Радилов не только в конце XII в., но и в начале XIII в. оставался
главным опорным пунктом владимиро-суздальских князей в Среднем Поволжье.
Одновременно он служил центром, из которого русское население осваивало местный
край. Отсюда двигался поток поселенцев вниз по Волге до устья Суры, а затем
вверх по Суре, что можно проследить на материалах XIV-начала XV в. Из Городца
шла поселенческая волна и в противоположном направлении: вверх по Волге и далее
по р.Унже. Правда, А.Н.Насонов считал, что ростово-суздальская дань
распространилась на Унжу не со стороны Волги, а со стороны Галицкого озера. Он
основывался на том, что «...во-первых, Унжа впоследствии входила в состав
Галицкого княжества. Во-вторых, о поселениях и городах, расположенных по Волге
между Костромой и устьем Унжи, впадающей в Волгу, сведения появляются не раньше
второй половины XIV в. (Плесо, Кинешма, Юрьевец). В-третьих, территория
Костромского княжества не доходила до р.Унжи и по течению р.Волги занимала
пространство от устья Солоницы до р.Елнати» [302].
Последние два наблюдения исследователя, безусловно, верны и свидетельствуют о
том, что на р.Унжу ростово-суздальцы проникли не со стороны Костромы. Что
касается первого довода, то он основывается на материалах XVI в., когда
территория по Унже в административном отношении действительно зависела от
Галича [303].
Однако это было новообразованием. До начала XV в. земли по Унже принадлежали
нижегородским князьям и тянули к Городцу [304].
Отсюда можно заключить, что освоение Унжи шло с Городца [305].
Препятствием к выводу о проникновении ростово-суздальской дани на Унжу от
Галицкого озера служит также то обстоятельство, что расположенный у этого озера
г.Галич Мерский упоминается позднее, чем г.Унжа. Основание г.Унжи так же, как и
основание г.Устюга, затронуло, по-видимому, интересы булгар в этих районах, чем
и объясняется их нападение на Устюг и Унжу в 1219 г . [306]
Проникновение ростовцев и далее на северо-восток, где были владения
новгородцев, как будто иллюстрируется записью Новгородской I летописи под 1187 г .: «Въ то же время
избьени быша печерьскеи и югърьскии (даньници) въ Печере, а другии за
Волокомь...» [307].
Кем были побиты новгородские данщики, летопись не указывает. В той же статье
сообщается далее, что новгородцы посылали послов к Всеволоду, прося себе князя.
Возможно, их решение было продиктовано желанием примириться с владимирским
князем, препятствовавшим получению Новгородом дани с Заволочья, Печеры и Югры.
Как было показано выше, суздальско-новгородский рубеж на
западе сформировался в 30-40-х годах XII в. В конце XII-начале XIII в.
владимиро-суздальская территория здесь несколько расширилась. Ее основным
центром, по крайней мере в военном отношении, стала Тверь. Когда в конце 1180 г . на Всеволода Большое
Гнездо двинулся киевский князь Святослав Всеволодович с половцами и
черниговцами, то со своим сыном Владимиром, шедшим из Новгорода, он соединился
«на ВълзЪ устье Тьхвери» [308].
Отсюда войска Святослава «положиша всю Вългу пусту и городы всЪ пожьгоша, и не
дошьдъше Переяславля за 40 вьрстъ, у ВьлЪнЪ у рЪцЪ, ту ся воротиша» [309].
Ясно, что земли по Волге ниже впадения в нее Тверцы были владимирскими.
Соединение Святослава с сыном при устье Тверцы нельзя признать случайным. Они
могли соединиться и где-нибудь на Волге ниже, как бывало раньше, но, вероятно,
на сей раз опасались оставить позади себя Тверь и другие города, которые
пожгли. Что же это были за города? Встреча Святослава с полками Всеволода
произошла на р.Влене, в 40 верстах от Переяславля. Река эта протекала недалеко
от г.Дмитрова, так как на обратном пути киевский князь сжег Дмитров [310].
Как показал еще Н.М.Карамзин, летописная р.Влена - это р.Веля, левый приток
Дубны [311].
Следовательно, в «сильную землю Суздальскую» Святослав вошел, придерживаясь
р.Дубны. На Волге от впадения в нее Тверцы до впадения Дубны стояли, как
показано выше, три суздальских города: Тверь, Шоша и Дубна. Их-то и пожгли
Святослав с Владимиром при своем движении к Переяславлю. Важное значение Твери
выявилось при новгородско-суздальском конфликте 1208 г . В Твери начали
собираться сыновья Всеволода, готовые к походу на Новгород, но дело кончилось
миром [312].
Из летописных известий 80-90-х годов XII в. о Торжке ясно
видно, что к тому времени четко сформировалось деление его территории на
владимирскую и новгородскую части, которые фиксируют грамоты 60-х годов XIII в.
[313]
В 1181 г .
новгородцы дали Торжок сопернику Всеволода и претенденту на владимирский стол
Ярополку Ростиславичу [314].
Сев в Торжке, Ярополк «поча воевати Волгу люди ВсеволожЪ» [315].
В январе 1197 г .
новгородцы выгнали от себя ставленника Всеволода, его свояка князя Ярослава
Владимировича [316].
По сообщению Раздивилловской и Академической летописей, «князь же великий
посади свояка своего на Новом Торъжьку» [317].
Следовательно, часть Торжка принадлежала великому князю Владимирскому. Это
подтверждается и сообщением Новгородской I летописи: «Ярославъ княжяше на
Торъжьку въ своей волости и дани поима по всему Вьрху и Мъсте, и за Волокомь
възьма дань» [318].
А.Н.Насонов, приведя текст о «своей волости» Ярослава в Торжке, считал, что
«части» здесь в конце XII в. только образовывались [319].
Однако обе приведенные цитаты свидетельствуют не о начале процесса выделения
«частей», а о его завершении [320].
И в 1215 г .
сын Всеволода Большое Гнездо Ярослав, захвативший Торжок, в ответ на требование
новгородского князя Мстислава пойти «с Торжьку въ свою волость, не надобна тобЪ
волость Новогородскаа» мог с полным правом сказать: «яко же тебЪ се отчина,
тако же и мнЪ» [321].
Относительно владимирской части на Волоке Ламском столь
определенных показаний источников нет. Но нападения Всеволода на эту
новгородскую волость в конце 1178г. [322],
начале 1197 г .
[323]
и укрепление г.Зубцова сигнализируют о формировании такой части. Особенно
показательно строительство на Волге владимирского Зубцова. Он явился клином,
отделившим новгородские владения в Верхнем Поволжье от Волока Ламского [324].
По некоторым признакам, в конце XII-начале XIII в. не
осталась неизменной и южная граница Владимиро-Суздальской земли. Рязанские
владения на левом берегу Оки, видимо, ограничивались территорией, прилегавшей к
Коломне. К западу от Коломны к левому берегу Оки, по-видимому, выходили
владимирские земли. Характерны в этом отношении сообщения Лаврентьевской
летописи под 1186 и 1207 гг. [325]
В 1186 г .
Всеволод вместе с Ярославом Владимировичем, муромским князем Владимиром
Юрьевичем и коломенским князем Всеволодом Глебовичем ходили на Рязань.
Рязанские волости они воевали «перебродивше Оку» [326].
В 1207 г .
Всеволод Большое Гнездо решил выступить против черниговских князей, Вместе с
ним должны были идти рязанские князья. Союзники намеревались соединиться на
Оке, вероятно, поблизости от черниговских владений. К месту встречи Всеволод
шел от Москвы и поставил свой шатер у Оки «на березЪ на пологом». Рязанские же
князья двигались «възлЪ рЪку Оку горЪ», т.е. шли ее правым высоким берегом. При
встрече выяснилось, что все рязанские князья, кроме Глеба и Олега
Владимировичей, тайно договорились с черниговскими Ольговичами против
Всеволода. Узнав об этом, Всеволод схватил заговорщиков и отправил их в свой
Владимир, а сам, перейдя Оку, начал воевать рязанские волости [327].
Из обоих сообщений вытекает, что рязанские владения лежали за р.Окой. С севера
к Оке придвигались владимиро-суздальские земли. Описание событий 1209 г . несколько
конкретизирует положение владимиро-рязанского рубежа. В том году рязанский
князь Изяслав Владимирович и пронский князь Кир Михаил, по свидетельству
Лаврентьевской летописи, «начаста воевати волость Всеволожю великаго князя
около Москвы» [328].
Всеволод послал против них своего сына Юрия. В Летописце Переяславля
Суздальского сохранилось известие, что Юрий встретил противников «у Осового»,
разбил их и заставил бежать за Оку [329]
Осовой, следовательно, принадлежал владимирской территории и находился недалеко
от Оки. Локализовать его можно по гидронимам с корнем «Ос-». Известна р.Осенка
- правый приток Северки, овраг Осочный у р.Сетовки - левого притока Северки [330].
Их география отвечает тем ориентирам, которые определяют приблизительное
местоположение Осового. Все это дает основание помещать Осовой в районе
р.Осенки. Здесь проходила граница Владимира с Рязанью (Коломной). Можно
предполагать, что черниговские волости на левом берегу Оки, в частности близ
Северки, уже при Всеволоде стали владимирскими. Видимо, столкновение Большого
Гнезда с Черниговом не прошли для последнего бесследно [331].
Расширение территории Владимиро-Суздальской земли в
последней четверти XII-начале XIII в., увеличение ее людских и материальных
ресурсов дали возможность Всеволоду выделить на Северо-Востоке части всем своим
сыновьям. Но в условиях натурального производства владельческое дробление земли
быстро превращалось в дробление политическое. Еще в 1207 г . Всеволод Большое
Гнездо передал Ростов своему старшему сыну Константину и «инЪхъ 5 городовъ да
ему к Ростову» [332].
А.В.Экземплярский полагал, что 5 городов - это Кснятин, Углич, Молога,
Ярославль и Белоозеро [333].
Расшифровку А.В.Экземплярского принимал А.Е.Пресняков [334].
Поправку в предложенный А.В.Экземплярским перечень внес А.Н.Насонов. Он
установил, что Кснятин не принадлежал к владениям Константина; его городом, как
об этом давно уже писал В.И.Сергеевич, был Устюг [335].
Всеволод видел в Константине своего преемника, но последний хотел, чтобы
стольным городом земли был не «Владимир, а Ростов [336].
Трения привели к тому, что великим князем Владимирским стал второй сын
Всеволода Юрий [337].
Помимо Владимира, в руках у Юрия оказались Боголюбов [338],
судя по несколько более поздним данным - Суздаль [339],
Москва [340],
Городец Радилов [341],
Соль Великая [342]
и Кострома [343].
Очевидно, земли по нижней Клязьме и Унже также входили в состав территории
великого княжества Владимирского. Третий Всеволодович, Ярослав, до 1238 г . владел Переяславским
княжеством. Территория последнего включала Переяславль Залесский [344],
Дмитров [345],
Тверь [346],
Зубцов [347],
Кснятин [348]
и Нерехту [349].
Ярославу должны были принадлежать также города Шоша и Дубна и, вероятно,
владимирские части в Торжке и Волоке Ламском. Четвертый сын Всеволода,
Владимир, получил Юрьев [350].
В итоге некогда единая Ростовская земля распалась на ряд владений. Но эти новые
политические образования не были устойчивыми. Междоусобная борьба братьев привела
к тому, что великим князем Владимирским после победы на Липицком поле под
г.Юрьевом в 1216 г .
стал старший Константин, соединивший в своих руках Ростовское и Владимирское
княжества [351].
Побежденному Юрию был выделен Городец Радилов [352],
пребывание Юрия в котором продолжалось около полутора лет. Осенью 1217 г . по соглашению с
Константином Юрий сел в Суздале [353].
Смерть Константина 2 февраля 1218
г . вернула Юрию владимирский стол [354].
Но Ростовское княжество осталось за сыновьями старшего Всеволодовича. Еще при
жизни Константин отдал Васильку Ростов, а Всеволоду - Ярославль [355].
Судя по более поздним данным, Ростову были подчинены Белоозеро и Устюг, а
Ярославлю - Молога. Третий сын Константина, Владимир, в 40-х годах XIII в.
сидел в Угличе [356].
Юрьевское княжество еще в конце 1212 - начале 1213 г . от Владимира перешло
к Святославу Всеволодовичу [357],
а Владимир, длительное время прожив на Юге, получил в 1217 г . от «братьи» (т.е.
Константина и Юрия) Стародуб [358].
В 1228 г .
Владимир Всеволодович умер, и территория его княжества слилась в одно целое с
великокняжескими землями [359].
Таким образом, второе десятилетие XIII в. знаменовало собой начало нового этапа в развитии древнерусской государственной территории на Северо-Востоке. Феодальное дробление, намечавшееся еще в 40-50-х годах XII в., теперь стало реальностью. Вместо одного сформировались семь княжеств, каждое из которых имело свою территорию и свои границы. Главным из них было великое княжество Владимирское, князь которого был старшим среди остальных князей, главой дипломатии и военных сил во внешнеполитических акциях. Ему же принадлежало право на выморочные княжества. Но несмотря на относительное единство, границы княжеств между собой имели суверенный характер, а владения одной княжеской ветви (Всеволодовичей) не переходили под контроль другой (Константиновичей) и наоборот. Эти особенности территориального развития древнерусского Северо-Востока впоследствии сыграли свою роль в процессе формирования территории единого Русского государства.
Внутренние распри Всеволодовичей приостановили расширение
внешних границ Владимиро-Суздальской земли. Лишь после того, как на
владимирском великокняжеском столе окончательно закрепился Юрий, сумевший
заставить ходить «в свою руку» братьев и племянников, наступила пора активной
политики владимирского князя по отношению к своим соседям. В 1220 г . владимирские,
ростовские и переяславские полки под предводительством Святослава
Всеволодовича, а также дружины двух муромских князей обрушились на булгарский
город Ошель [360].
Напуганные разгромом Ошеля, булгары в том же году прислали посольство к
великому князю Юрию, «молящеся и мира просяще» [361].
После длительных переговоров в Городце Радилове был заключен мир. По-видимому,
одним из условий договора был отказ булгарских князей от протектората над
мордовскими племенами. Уже в 1221
г . Юрий Всеволодович на территории этих племен в важном
стратегическом месте, при впадении Оки в Волгу, заложил г.Нижний Новгород [362].
В течение ближайших восьми лет здесь были построены каменная церковь и
монастырь [363],
вероятные очаги распространения христианства среди местного населения. В 1226 г . Юрий посылал на
мордву своих братьев Святослава Юрьевского и Ивана, которые сумели захватить
несколько мордовских сел [364].
Под 1229 г .
летопись упоминает владения Пуреша, "ротника Юргева", т.е. вассала
великого князя Владимирского [365].
Таким образом, к 30-м годам XIII в. владимиро-суздальская территория
распространилась до устья Оки и, возможно, далее вниз по Волге. (См. рис.3)
Некоторые мордовские князья признали свою вассальную зависимость от Юрия
Владимирского. Эти достижения князя Юрия, по-видимому, были закреплены его
соглашением с волжскими булгарами в 1230 г . [366]
Рис.3.
Княжества Северо-Восточной Руси к 1236 г .
Другим и столь же традиционным направлением движения
владимиро-суздальских даней при Юрии было северо-восточное. Здесь под 1238 г . впервые упоминается
г.Галич Мерский [367].
Возможно, несколько расширились ростовские владения в районе Устюга, Во всяком
случае ростовская рать, принимавшая участие в походе на булгар в 1220 г . к верховьям Камы
прошла с Устюга, а затем Камой достигла Волги [368].
Процесс распространения русского влияния из Волжско-Окского междуречья далее на
восток был оборван монголо-татарским завоеванием, повлекшим существенные
изменения в политической и территориальной структуре Владимиро-Суздальской
земли.
1. Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. - МИА СССР, М., 1961, № 94, с.183-248, особенно см. с.183-185, 190-192, 205, 212; Ярославское Поволжье X-XI вв. М., 1963, с.8, 15; Розенфельдт Р.Л. Древнейшие города Подмосковья и процесс их возникновения. - В кн.: Русский город. М., 1976, с.7,10-11.
2. К этому времени относится, в частности, славянское погребение в кургане № 130 у д.Большое Тимерево близ Ярославля. - Ярославское Поволжье..., с.8, Тимеревский могильник. Сводная таблица.
3. Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с.7,10.
4. Алешковский М.X. Курганы русских дружинников XI-XII вв. - СА, 1960, № 1. К бесспорно дружинным курганам могут быть отнесены указанные автором курганы Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья под № 30, 35, 36, 45, 46, 48, 49, 50, 51, где найдены не только боевые топоры, но и другое вооружение или украшения; Ярославское Поволжье..., с.55-63.
5. Ярославское Поволжье..., с.8,123, Тимеревский могильник. Сводная таблица, курган № 394; Дубов И.В. Новые раскопки Тимеревского могильника. - КСИА, М, 1976, вып.146, с.85-86.
6. В частности, о мере Е.И. Горюнова пишет, что она развилась до уровня племенного союза. - Горюнова Е.И. Указ. соч., с.248.
7. Критику этой концепции см.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, с.188, примеч.1.
8. Горюнова Е.И. Указ. соч., с.245. Впрочем, на с.205. Е.И.Горюнова дает несколько иное объяснение этого процесса.
9. Ярославское Поволжье..., с.8,79; Дубов И.В. Указ. соч., с.85-86.
10. Горюнова Е.И. Указ. соч., с.205; Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с.14-15.
11. Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с.11.
12. Как теперь выясняется, возникший в VIII в. один из крупных центров мери - Сарское городище - продолжал существовать и в Х - начале XI в. См.: Леонтьев А.Е. О времени возникновения Сарского городища. - Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер.8, История, 1974, № 5, с.73; Он же. «Город Александра Поповича» в окрестностях Ростова Великого. - Там же, 1974, № 3, с.85.
13. Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с.11.
14. О наложении Киевом дани на мерю сообщают древнейшие летописные своды. Но в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях князем, заставившим мерю платить дань, назван Олег (ПСРЛ. Л., 1926-1928, т.1, стб.23-24; ПСРЛ, 2-е изд. СПб.., 1908, т.2, стб.17. Здесь и далее ссылки на эти издания), а в Новгородской I летописи младшего извода - Игорь (НПЛ, с. 107). А.А.Шахматов старшим признавал чтение первых двух летописей (Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - ЛЗАК. СПб., 1908, вып.20, с.318-319, 542, 612); А.Е.Пресняков был склонен признавать древнейшим текст Новгородской I летописи (Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. М., 1938, т.1, с.73). Независимо от того, кто именно заставил мерю платить дань, бесспорным остается факт взимания с мери дани не позднее первой половины Х в.
15. Представителей такой знати можно видеть в боярине Кучке, жившем примерно в конце XI - первой половине XII в., и его детях, служивших князю Андрею Боголюбскому (о последних см.: НПЛ, с.467, 468). Имя Кучка считают балтийским (Топоров В. Н. «ВаШса» Подмосковья. - В кн.: Балто-славянский сборник. М., 1972, с.275).
16. Наличие дружинных погребений в Верхнем Поволжье и Волго-Окском междуречье еще не дает права делать вывод о том, что славянская колонизация проходила здесь «далеко не мирным путем». Ср.: Ярославское Поволжье, с.63.
17. Хронология объединения Новгорода с Киевом колеблется в пределах от конца IX в. до первой половины Х в. в зависимости от признания того, кто осуществил объединение: Олег или Игорь. Поэтому иногда это объединение датируется концом IX- началом Х в. См.: Насонов А. Н. «Русская земля»..., с.216.
18. Топоним Ростов - славянского происхождения. Ср.: упоминаемый в XI в. город Растовец (Ростовец) близ Киева; Рузская волость Ростовцы и серпуховская волость Растовец первой половины XIV в., тульская Растовицкая волость XVI в., многочисленные речки и деревни Ростовки.
19. Шахматов А.А. Повесть Временных лет. Том I. Вводная часть. Текст. Примечания. - ЛЗАК. Пг., 1917, вып.29, с.20,31. Мнение А.А. Шахматова принимал и Б.Д.Греков (Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953, с.295).
20. ПСРЛ, т.1, стб.10; т.2, стб.8; Шахматов А.А. Повесть Временных лет..., с.10.
21. О существовании города Ростова в IX в. (с оговоркой - «по летописи») писал М.Н.Тихомиров (Тихомиров М.Н. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956, с.392), а также А.М.Сахаров (Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV-XV веков. М., 1959, с.28). Ср.: Горюнова Е.И. К истории городов Севере Восточной Руси. - КСИИМК, М., 1955, № 59, с.15. Е.И.Горюнова противопоставляет упоминания Ростова письменными источниками в IX в. археологическому материалу X-XI вв, но такое противопоставление не имеет смысла, поскольку упоминания Ростова в IX в. недостоверны.
22. НПЛ, с.159; ПСРЛ, т.1, стб.121; т.2, стб.105. Однако сведения о княжении в Ростове Бориса находятся в противоречии с сообщением «Чтения о Борисе и Глебе» Нестора о княжении Бориса во Владимире Волынском (Шахматов А. А. Разыскания..., с.87-89).
23. Шахматов А.А. Разыскания..., с.616, примеч.2-4.
24. Повесть Временных лет. М.; Л., 1950, т.2, с.325, 342-343; Насонов А.Н «Русская земля»..., с.178.
25.
ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1925, т.5, вып.1, с.123, под 6527 г .; ПСРЛ. 2-е изд. Пг.,
1915, т.4, ч.1, вып.1, с.110, под 6528 г .
26.
Там же, т.1, стб.147-148; т.2, стб.135. Последнюю фразу
см.: Там же, т.5, вып.1, с.124. Она была в Новгородско-Софийском своде 30-х
годов XV в. (ср.: ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.112) и, согласно разысканиям
А.А.Шахматова, восходит к Новгородскому своду 1050 г . (Шахматов А.А.
Разыскания..., с.621). Исследователи считают известие об «уставлении»
Ростовской земли Ярославом около 1024
г . вполне достоверным (Насонов А.Н. «Русская земля»...,
с.178; Греков Б.Д. Указ. соч., с.303; Горюнова Е.И. К истории..., с.19).
27. НПЛ, с.192; ПСРЛ, т.1, стб.175; т.2, стб.164.
28. Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XV в. - МИА СССР, М., 1941, № 6, с.151,155.
29.
Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.416. Отсюда М.Н.Тихомиров
заключал, что г.Ярославль был основан до 1015 г . Е.И.Горюнова полагает, что г.Ярославль
был основан около 1024 г .,
когда Ярослав «уставлял» Ростовскую землю (Горюнова Е.И. К истории..., с.19).
В.Л.Янин считает, что г.Ярославль был основан в 1034 г . (Янин В.Л.
Новгородские посадники. М., 1962, с.49, примеч.17). Основание г.Ярославля
М.Н.Тихомиров справедливо связывал с фактом длительного пребывания в Ростовской
земле Ярослава. Но пребывание Ярослава в Суздале в 1024 г . было по всем
признакам недолгим. Что касается даты 1034 г ., то она выведена искусственно и не
находит прямого подтверждения в источниках.
30. НПЛ, с.160, см. также с.469.
31. См. академическое издание этих уставов. - Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. / Изд. подготовил Я.Н.Щапов. М., 1976.
32. Там же. с.147-148. Последнюю характеристику Устава князя Святослава Ольговича 1136/37 г. см. в работе А.В.Кузы (Куза А.В. Новгородская земля. - В кн.: Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975, с.156-164, 166). Весьма привлекательной представляется точка зрения А.В.Кузы, расшифровывающего летописные упоминания (под 1228 и 1230 гг.) новгородских «Ярославлих грамот» как ссылки на уставы XI в. Ярослава Мудрого «с перечнем территорий, погостов и становищ, где взималась дань и вершился суд...» (Там же, с.162).
33. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.178.
34. НПЛ, с.192; ПСРЛ, т.1, стб.175; т.2, стб.164.
35. НПЛ, с.160, см. также с.469.
36. Впрочем, одно противоречие в перечне владений Ярославичей все-таки есть. Если Святославу достались Чернигов и вся восточная страна вплоть до Мурома, то по смыслу последних слов ему должен был принадлежать и Курск. Между тем Курск в конце 60-х годов XI в. - в руках Всеволода, а в 90-х годах XI в. - у его внука Изяслава и только позднее переходит к потомкам Святослава.
37. Повесть Временных лет, т.2, с.389.
38. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. 1П6., 1909, с.42, примеч.1.
39. ПСРЛ, т.1, стб.247.
40. НПЛ, с.192-195; ПСРЛ, т.1, стб.175-179; т.2, стб.164-168.
41. Пресняков А.Е. Княжое право..., с.41-42.
42. Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о руской истории. М., 1855, т.6, с.45, примеч.22.
43.
Шляков Н.В. О Поучении Владимира Мономаха. - ЖМНП, 1900, №
5, с.101 (Н.В.Шляков датировал первый «путь» Мономаха 6580 г . Это 1072/73 г., так
как 6580 г .
летописи - мартовский); Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.181, 48, 168-169;
Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, с.269.
44. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1959, кн.1, т.1/2, с.695, примеч.50.
45. Кучкин В.А. «Поучение» Владимира Мономаха и русско-польско-немецкие отношения 60-70-х годов XI века. - Советское славяноведение, 1971, № 2, с.25-27.
46. Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв. М., 1955, с.114; Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М., 1961, т.1, с.24, 25; Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.2, стб.54; Приселков М.Д. Киевское государство второй половины Х в. по византийским источникам. - Учен. зап. ЛГУ. Сер. ист. наук, 1941, вып.8, с.237 (70-е годы XI в.).
47. Шахматов А.А. Повесть Временных лет..., с.221-230.
48. НПЛ, с.191, 192, 195, 196; ПСРЛ, т.1, стб.174, 175, 179, 180; т.2, стб.164, 168, 170.
49. Шахматов А.А. Разыскания..., с.456-457. На с.457, строка 4 сверху, опечатка: вместо «под 6575-м» надо читать «под 6573-м».
50. К ней, в частности, присоединился М.Д.Приселков {Приселков М.Д. Очерки по перковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв. СПб., 1913, с.122). Под влиянием соображений А.А.Шахматова Б.Д.Греков относил поездку Яна Вышатича на Белоозеро к концу 60- началу 70-х годов XI в. (Греков Б.Д. Указ. соч., с.265).
51. Шахматов А.А. Разыскания..., с.456.
52. Там же, с.457.
53. Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, с.170-171.
54. Алексеев Д.В. Полоцкая земля: Очерки истории северной Белоруссии в IX-XIII вв. М., 1966, с.245-246.
55. Шахматов А.А. Разыскания..., с.456.
56. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.1, т.1/2, с.693-694, примеч.29. К такой датировке склонялся и А.Е.Пресняков (Пресняков А.Е. Княжое право..., с.210, примеч.1).
57.
Так считали еще составители печатного Патерика 1661 г . (Патерик, или
Отечник Печерский. Киев, 1661,
л .91об.), а следом за ними и Н.М. Карамзин (Карамзин
Н.М. Указ. соч., кн.1, т.2, стб.53). М.Д.Приселков начинает биографию Яна
Вышатича с поездки на Белоозеро, о которой говорится в летописи под 1071 г ., а потому считает
его черниговским боярином, мало известным в Киеве (Приселков М.Д. История
русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, с.18-19). Вывод М.Д.Приселкова
принимает М.Н.Тихомиров (Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания...,
с. 115).
58. Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971, с.83, 84, 86, 95.
59. Шахматов А.А. Разыскания..., с.434-435.
60.
Изяслав наследовал Ярославу Мудрому, умершему 20 февраля 1054 г . (НПЛ, с.182; ПСРЛ,
т.1, стб.162; т.2, стб.150). После Киевского восстания 1068 г . Изяслав бежал в
Польшу (НПЛ, с.189; ПСРЛ, т.1, стб.171; т.2, стб.161).
61. Успенский сборник XII-XIII вв., с.83.
62. Там же, с.85.
63. ПСРЛ, т.1, стб.208; т.2, стб.199.
64. Там же, т.1, стб.281; т.2, стб.257.
65. Там же, т.1, стб.212; т.2, стб.203.
66.
Такой вывод противоречит довольно распространенному в
литературе утверждению, что Ян Вышатич был внуком новгородского посадника
Остромира. Сам Остромир упоминается в 1056-1057 гг. (запись на Остромировом
евангелии) , Вышата Остромирич - в 1064 г . (НПЛ, с.184). Между тем у Яна Вышатича
в 1060 г .
был уже женатый сын.
67. НПЛ, с.197; ПСРЛ, т.1, стб.182, 199; т.2, стб.172,190.
68. Колчин Б.А., Черных Н.В. Дендрохронология Восточной Европы. М., 1977, рис.15,16.
69. НПЛ, с.192, ср.: ПСРЛ, т.1, стб.175; т.2, стб.165.
70.
Поэтому нельзя согласиться с М.С.Грушевским, полагавшим все
Поволжье в руках Святослава и выводившим из этого факт обмена в 1073 г . Поволжья, которое
принадлежало ранее Всеволоду, на Волынь, прежнее владение Святослава. -
Грушевський М.С. Історія України-Руси. У Львові, 1905, т.2, с.62, примеч.2.
71.
Соловьев С.М. Указ. соч., кн.1, т.1/2, с.356. Точку зрения
С.М.Соловьева разделял В.О.Ключевский (Ключевский В.О. Сочинения. М., 1956, т.1
с.179). Однако прямое указание летописи на принадлежность Чернигова Всеволоду
относится только к 1077 г .
(ПСРЛ, т.1, стб.199; т.2, стб.190). Видимо, это обстоятельство дало повод Б.Д.Грекову
утверждать, что Святослав, захватив киевский стол, остался и князем
черниговским (Греков Б.Д. Указ. соч., с.495).
72. ПСРЛ, т.1, стб.247.
73. После смерти отца Олег Святославич был «выведенъ» из Владимира Волынского. - ПСРЛ, т.1, стб.247.
74. Там же, стб.237, 254; т.2, стб.226, 227.
75. Там же, т.1, стб.202-204, 216; т.2, стб.193-195, 207.
76. НПЛ, с.161, см. также с.470.
77. Там же, с.20; см. также: ПСРЛ, т.2, стб.284; т.1, стб.291.
78. ПСРЛ, т.1, стб.207; т.2, стб.199. Впоследствии новгородцы упрекали Святополка: «Ты еси шелъ от насъ» (Там же, т.1, стб.276; т.2, стб.251). М.С.Грушевский полагал, что Святополк обменял Новгород на Туров (Грушевський М.С. Указ. соч., т.2, с.78). К подобному выводу приходил и А.Е.Пресняков (Пресняков А.Е. Княжое право..., с.53).
79. ПСРЛ, т.1, стб.229; т.2, стб.219.
80.
В.Л.Янин полагает, что Мстислав первый раз княжил в
Новгороде до начала 1094 г .
(Янин В.Д. Указ. соч., с.51). Следует, однако, иметь в виду, что в
хронологические расчеты автора здесь вкралась ошибка: битва Мстислава с Олегом
у Суздаля отнесена к 1096 г .
вместо 1097 г .
(Там же, с.50 и примеч.28).
81. ПСРЛ, т.1, стб.226; т.2, стб.216-217. В своем «Поучении» Мономах говорит, что он оставил Чернигов на «Бориса день», т.е. 24 июля (ПСРЛ, т.1, стб.249). О дате ухода Мономаха из Чернигова см. в кн.: Шляков Н.В. Указ. соч., с.99; Повесть временных лет, т.2, с.447.
82. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.181.
83. Сами новгородцы, по-видимому, твердо стояли за Мстислава. Ср.: ПСРЛ, т.1, стб.276; т.2, стб.251.
84. Там же, т.1, стб.239; т.2, стб.229.
85. Ивакин И.М Князь Владимир Мономах и его Поучение. Часть первая. Поучение детям. Письмо к Олегу и отрывки. М., 1901, с.4; Орлов А.С. Владимир Мономах. М.; Л., 1946, с.153-154.
86. ПСРЛ, т.1, стб.254.
87. Там же, стб.247; т.2, стб.190.
88. Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха и «Хождение игумена Даниила». - ТОДРЛ. М.; Л., 1960, т.16.
89. Воронин Н.Н. Зодчество..., т.1, с.26.
90. Янин В.Л. Междукняжеские отношения..., с.120.
91. Там же, с.115-121.
92. Сергеевич В.И. Древности русского права. 3-е изд. СПб., 1908, т.2, с.353-370.
93. Грушевський М.С. Указ. соч., т.2.
94. Пресняков А.Е. Княжое право...
95. В последнем отношении характерна приведенная (в пересказе) С.М.Соловьевым в пользу своей теории цитата из Никоновской летописи: «Как прадеды наши лествицею восходили на великое княжение Киевское, так и нам должно достигать его лествичным восхождением» (Соловьев С.М. Указ. соч., кн.1, т.1/2, с.347. Точная цитата приведена на с.727, примеч.361. Относительно этого указания Никоновской летописи см.; Сергеевич В.И. Указ. соч., т.2, с.368-369).
96.
Как и Мстислав, Изяслав был крестником Олега Святославича
(ПСРЛ, т.1, стб.253: «оубиша дитя мое и твое» - из письма Мономаха к Олегу).
Крещение состоялось не позднее 10 апреля 1078 г ., когда Олег бежал из Чернигова от
Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха (ПСРЛ, т.1, стб.199, 247). Во время
пребывания в Чернигове Олег и мог крестить Изяслава. Дату смерти Изяслава см.:
ПСРЛ, т.1, стб.237; т.2, стб.227.
97. ПСРЛ, т.1, стб.301; т.2, стб.294; о времени восшествия на киевский стол Ярополка см.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963, с.49, 135.
98. ПСРЛ, т.1, стб.239; т.2, стб.229.
99. Там же, т.1, стб.227; т.2, стб.217.
100. Там же, т.2, стб.276.
101. Там же, т.1, стб.282-283; т.2, стб.259.
102. Там же. СПб.. 1863, т.15, стб.188.
103. Ивакин И.М. Указ. соч., с.306; Насонов А.Н «Русская земля»..., с.170.
104.
Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1963, т.2, с.96.
Но говоря о смерти Долгорукого в 1157
г ., В.Н.Татищев определяет его возраст в 66 лет (Татищев
В.Н. Указ. соч. М.; Л., 1964, т.3, с.58; т.4, с.250).
105. ПСРЛ, т.2, стб.430. Согласно летописцу, справедливость этих слов признавал сам Юрий: «тако право есть, ако то и молвиши» (Там же; ср.: стб.428 и 429, где также речь идет о возрасте Юрия и Вячеслава).
106. Там же, т.1, стб.238-239; т.2, стб.228-229.
107. Там же, т.1, стб.240; т.2, стб.230 и вар.29. Летописная Кулачка очень часто отождествляется с р.Колокшей (см., например: Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии. 2-е изд. Варшава, 1885, с.205). Между тем Кулачка - это название местности рядом с г.Суздалем, по-видимому на его южной окраине. Узнав, что Олег неожиданно идет на него с р.Клязьмы, Мстислав «ста пред градом исполчивъ дружину». Когда Олег подошел «к городу», то Мстислав перешел «пожаръ с Новгородци», причем новгородцы спешились с коней для битвы - признак, что сражение произошло рядом с Суздалем. «Пожар» - это суздальский кремль, который Олег сжег незадолго до этого.
108. ПСРЛ, т.1, стб.252.
109. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.2, стб.68 и примеч.177.
110. ПСРЛ, т.1, стб.240; т.2, стб.230.
111. Там же, т.1, стб.236; т.2. стб.226.
112. Там же, т.1, стб.238; т.2, стб.228.
113. Олег «перея всю землю Муромску и Ростовьску». - Там же, т.1, стб.237 (т.2, стб.227: вместо «перея» ошибочно стоит «переяславцЪ», что не оговорено издателем).
114. После разгрома Изяслава Владимировича у Мурома оставшиеся в живых его воины «побЪгоша ови чересъ лЪсъ, друзии в городъ», т.е. в Ростовскую землю и в Муром (Там же, т.1, стб.237; т.2, стб.227).
115. Там же, т.1, стб.237; т.2, стб.227
116. Данщики Ярослава были захвачены воеводой Мстислава Владимировича Добрыней Рагуиловичем, который был послан Мстиславом «в сторожЪ». Двигавшийся за убегавшими данщиками Ярослава и за Добрыней Мстислав «приде на Волгу» (Там же, т.1, стб.238: т.2, стб.228). Следовательно, Ярослав стоял при впадении Медведицы в Волгу. «Сторожа», выставленная здесь Олегом, должна была перекрыть возможные подходы к Ростову по Волге и по Медведице. Со стороны последней и двигался Мстислав из Новгорода на Ярослава и Олега.
117. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.179, 195-196.
118. А.В.Куза, основываясь на летописных сообщениях о посылке князя Ярослава в «сторожЪ» на Медведицу и о стремлении Олега «переяти» Новгород, считает, что граница новгородских земель шла по левому берегу Волги (Куза А.В. Указ. соч., с.196). Но данщики Ярослава были захвачены новгородской «сторожей», т.е. действия и со стороны Ростова, и со стороны Новгорода носили в районе Медведицы весьма осмотрительный характер. И, если отталкиваться при проведении границ от характера порубежных военных действий, приходится признать, что последние мало помогают в определении территорий княжеств.
119. ПСРЛ, т.1, стб.239; т.2, стб.229; Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.179.
120. ПСРЛ. Пг, 1921, т.24, с.73.
121.
О происхождении летописного источника, включившего это
известие, см. в кн.: Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI
вв. М.; Л., 1938, с.290-291. А.Н.Насонов относил описание событий 1107 г . к записям
ростовского клира второй половины XII- начала XIII в. (Насонов А.Н. История
русского летописания XI- начала XVIII века. М., 1969, с.119-123).
122. ПСРЛ, т.1, стб.282.
123. Ср.: «Ярославу же живущу в НовЪгородЪ и урокомъ дающю дань Кыеву 2000 гривен от года до года, а тысящу НовЬгородЪ гридемъ раздаваху». - НПЛ, с.168.
124. Об этом он говорит в своем «Поучении» (ПСРЛ, т.1, стб.250). Возможно, с одной из этих поездок следует связывать строительство Мономахом в Ростове церкви Богородицы (Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911, с.9. Далее; Патерик...).
125. ПСРЛ, т.1, стб.250.
126. Там же, т.1, стб.282-283; т.2, стб.259.
127. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.181-183.
128.
Мысль эта была впервые высказана Н.П.Барсовым и поддержана
С.Ф.Платоновым и А.Н.Насоновым (Барсов Н.П. Указ. соч., с.172; Платонов С.Ф.
Статьи по русской истории. СПб., 1903, с.103; Насонов А.Н. «Русская земля»...,
с.183). Однако после Любечского съезда в 1097 г . у Мономаха вплоть до его смерти в 1125 г . были мирные или даже
союзные отношения с двоюродными братьями - черниговскими Святославичами
(Погодин Н.П. Исследования, замечания и лекции..., т.6, с.41-53).
129. Седова М.В. Предметы вооружения из Ярополча Залесского. - КСИА, М., 1971, вып.125, с.87. В письменных источниках г.Ярополч впервые упоминается в известном списке «А се имена всЪм градом Рускым, далним и ближним» 1394-1396 гг. (НПЛ, с.477).
130. Седов В.В. Древнерусское поселение близ г.Вязники. - КСИА, М., 1961, вып.85, с.95.
131. Подробнее см.: Кучкин В.А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских булгар в XII - первой трети XIII в. - В кн.: Историческая география России XII - начала XX в. М., 1975, с.34-35.
132. Патерик..., с.189. На с.5 того же издания в приведенной фразе ошибочно расставлены знаки препинания: запятая поставлена перед словами «сии Георгии». Опечатка дала основание В.Л.Янину отказаться от традиционного понимания фразы и считать, что речь идет не о присмотре тысяцкого Георгия за юным князем, а о передаче этим Георгием своего сына, тоже Георгия, на воспитание Мономаху (Янин В.Л. Междукняжеские отношения..., с.119 и примеч.46). Однако грамматическая конструкция фразы, наличие усилительной частицы «же» требуют обычного понимания текста. Вообще случаи воспитания в домонгольской Руси боярских детей князьями неизвестны. Передача же княжичей под присмотр бояр-«кормильцев» зафиксирована источниками (ПСРЛ, т.2, стб.431, 609, 621-622).
133. ПСРЛ, т.2, стб.289.
134.
НПЛ, с.467. Церковь Богородицы во Владимире была заложена в
1158г., а построена в 1160 г .
(ПСРЛ, т.1, стб.348, 351).
135.
А.Е.Пресняков признавал свидетельством суздальской политики
Юрия (следовательно - княжения в Ростове) его командование походом р.Волгой на
булгар в 1120 г .
(Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.36).
М.Д.Приселков даже относил летописное известие об этом к числу древнейших
ростовских записей (Приселков М.Д. История русского летописания..., с.64).
Однако А.Н. Насонов показал, что сообщение 1120 г . о походе Юрия -
южное, и сам поход, скорее всего, начался из Киевской земли (Насонов А.Н.
История русского летописания..., с.115).
136.
ПСРЛ, т.2, стб.293, под 6638 г .; Патерик..., с.62;
Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.176-177.
137. Патерик..., с.9.
138.
Дуализм в названии земли и ее жителей встречается уже при
описании событий 1135 г .
По Лаврентьевской летописи, в битве на Ждане горе новгородцы были разбиты
ростовцами (ПСРЛ, т.1, стб.303), а по Ипатьевской и Новгородской I старшего
извода, - суздальцамн (ПСРЛ, т.2, стб.300; НПЛ, с.23).
139. Горюнова Е.И. Этническая история..., с.184 (карта); Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с.14-15.
140. Насонов А.Н. Тмуторокань в истории Восточной Европы Х века - Ист. зап., 1940, вып.6, с.96.
141. Очерки истории СССР: Период феодализма IX-XV вв. М., 1953, ч.1, с.322; Попов А.И. Географические названия. М.; Л., 1965, с.59-60.
142. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.170-171, 185; Он же. История русского летописания..., с.113.
143. Смоленские грамоты XIII-XIV веков. М., 1963, с.77.
144. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси, XI-XIV вв. М., 1972, с.137.
145. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.168.
146. ПСРЛ, т.1, стб.302; т.2, стб.295.
147.
Юрий вернулся в свое княжество вскоре после битвы 26 января
1135 г .
на Ждане горе. - ПСРЛ, т.2, стб.300, под 6645 г . О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч.,
с.136,137.
148. ПСРЛ, т.1, стб.302.
149. Там же, стб.301-302.
150. Так считал А. Н. Насонов.- «Русская земля»..., с.185.
151. Пресняков А.Е. Лекции по русской истории, т.1, с.138.
152. Насонов А. Н. «Русская земля»..., с.183-185.
153. ПСРЛ, т.2, стб.339-340. Первое известие о Москве восходит к черниговскому летописанию (Насонов А.Н. История русского летописания.., с.106).
154. ПСРЛ, т.1, стб.373, 375, 376; т.2, стб.596, 600, 601.
155. Там же, т.1, стб.382; т.2, стб.600, 602.
156. Там же, т.2, стб.600.
157. Приведенные данные, конечно, не могут пролить свет на время существования поселения на месте будущей Москвы. О первоначальном значении Москвы как именно пограничного города см. до сих пор не устаревшую работу С.Ф.Платонова «О начале Москвы». - Платонов С.Ф. Статьи по русской истории, с.94-103.
158. ПСРЛ, т.2, стб.339.
159. Там же, стб.338. О местоположении древнего Килтеска см.: Насонов А.В. «Русская земля»..., с.183.
160. ПСРЛ, т.2, стб.602.
161. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.1, т.1/2, с.723, примеч.338; Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957, т.2, с.6.
162. Грушевський М.С. Указ. соч., т.2, с.605; Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.227.
163. ДДГ, с.29. О датировке московско-рязанского договора см.: Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV-XV вв. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1958, вып.6, с.286-287. А.А.Юшко, искусственно пытаясь отождествить городище у д.Макаровки с древней Лопасней, превращает причастие «почен» в название города и предлагает заняться его поисками (Юшко Л.Л. О некоторых волостях и волостных центрах Московской земли XIV в. - В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с.284).
164. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.3, примеч.39; Дебольский В.Н. Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник. СПб., 1901, ч.1, с.16,26.
165. ПСРЛ, т.2, стб.602.
166. Карамзин Н.М. Указ. соч. кн.1, т.3, примеч.39.
167. Московская губерния. Список населенных мест. СПб., 1862, с.211, № 5504.
168. Барсов Н.П. Указ. соч., с.302, примеч.268; Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.230.
169. ДДГ, с.7,9.
170. Там же, с.12,14.
171. Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. М., 1937, с.374; Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929, с.58.
172. ПСРЛ, т.2, стб.339.
173. Там же, т.1, стб.303-306; т.2, стб.295-302.
174. Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI-XIV веков. М., 1964, с.27-28, № 23.
175.
НПЛ, с.25, под 6647 г .
176.
ПСРЛ, т.1, стб.302, под 6643 г .
177. Там же, т.2, стб.339.
178. Там же, стб.367.
179. Там же, стб.388.
180. Там же, стб.393. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.149-150.
181.
ПСРЛ, т.1, стб.302, под 6643 г . ультрамартовским. О
дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.50.
182. НПЛ, с.23.
183. Там же; ПСРЛ, т.1, стб.303.
184. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.90,185.
185. ПСРЛ. СПб., 1862, т.9, с.158.
186. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.185. Н.Н.Воронин считает, что г.Кснятин был основан в начале XI в. новгородским посадником Константином, сосланным Ярославом Мудрым в Ростовскую землю {Воронин Н.Н. Зодчество..., т.1, с.24). Но как мог сосланный посадник основать город и почему это было нужно, остается неясным. В письменных источниках Кснятин фигурирует лишь с XII в.
187.
ПСРЛ, т.2, стб.368, 369, 371. Это обстоятельство дало повод
А.В.Кузе предполагать, что суздальские земли в 40-х годах XII в. простирались
лишь до р.Медведицы (Куза А.В. Указ. соч., с.198). Но в таком случае трудно
объяснить, почему в 1147 г .
Юрий Долгорукий повоевал не район р.Медведицы, а Поместье, т.е. территорию,
лежавшую за верховьем Медведицы.
188.
ПСРЛ, т.1, стб.320, под 6657 г . О дате события см.:
Бережков Н.Г. Указ. соч., с.61.
189. НПЛ, с.28.
190. ПСРЛ, т.2, стб.371, примеч. а и вар.3.
191. Там же, стб.371-372.
192.
Следует заметить, что статья 6657 г . Лаврентьевской
летописи в целом сокращает статью 6657 г . Ипатьевской летописи, однако не в
рассказе о походе Изяслава на Юрия. Ср.: Насонов А. Н. История русского
летописания..., с.92.
193. Город Молога прямо в летописях не называется. Из позднейших материалов известно, что он стоял при впадении р.Мологи в Волгу. Последним пунктом Ростовской земли, до которого дошли Изяслав и Ростислав, было устье р.Мологи. Здесь они оставались довольно продолжительное время, дожидаясь возвращения посланных к Ярославлю полков. Остановка войск в устье Мологи имела, конечно, смысл только в том случае, если здесь было поселение.
194.
ГБЛ, ф.98, № 637,
л .389об. (Сказание о Владимирской иконе божьей матери).
195.
НПЛ, с.55, под 6724 г .
196. Археологические раскопки на месте древней Дубны, стоявшей на мысу между правым берегом Волги и левым берегом Дубны, в четырех км к северо-западу от современного г.Дубна, показали, что поселение здесь существовало в XI-XIII вв. (для датировки поселения концом Х в. твердых оснований нет). См.: Успенская А.В. Древнерусское поселение близ г.Дубна. - Труды ГИМ, М., 1966, вып.40, с.105-111.
197.
Н.В.Шляков полагал, что шесть городков, взятых у Юрия в 1149 г ., это Кснятин, Устье
Кашинское, Городище (Городец), Прилуки, Чепцы (Святославле Поле) и Угличе Поле
(Шляков Н. Указ. соч., с.19). Однако археологическое обследование берегов Волги
от Кснятина до Углича никаких городищ в этом районе не обнаружило (Очерки по
истории русской деревни X-XIII вв. М., 1956, с.155-156 и карта (Труды ГИМ,
вып.32).
198. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.193, 195-196.
199. Голубовский П.В. История Смоленской земли до начала XV ст. Киев, 1895, с.75.
200. Там же, с.50 и примеч.3; с.67 и примеч.3; с.68-74 и примеч. на этих страницах.
201.
Там же, с.67, примеч.3 (волости Верея, Рудь, Гордошевичи,
Гремичи, Заберега и Сутов). Ср.: ДДГ, с.34. Кстати, в духовной 1389 г . Дмитрия Донского
фигурирует не Сутов, а Сушов, поэтому теряет всякий смысл локализация
П.В.Голубовским Сутова (Голубовский П.В. Указ. соч., с.72, примеч.1).
202. Голубовский П.В. Указ. соч., с.68-69; с.71 и примеч.2; с.72 и примеч.1.
203. Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976, с.103.
204.
ДДГ, с.11 (документ 1348 г .); ср.: Там же, с.33 (документ 1389 г .), где впервые
упоминается с.Добрятино.
205. Голубовский П.В. Указ. соч., с.72, примеч.1.
206. Там же, с.71, примеч.2.
207. ДДГ, с.49.
208. Там же, с.72.
209. Там же, с.29.
210. На некорректность приемов П.В.Голубовского при определении восточной части территории Смоленского княжества в общем плане уже указывал В.В.Седов. - Седов В.В. Смоленская земля. - В кн.: Древнерусские княжества Х-ХIII вв., с.257.
211. ПСРЛ, т.24, с.77. Клещино - древнерусский топоним, произведенный от названия рыбы лещ («клещ»). - Куза А.В., Медынцева А.А. Рец. на кн.: Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник - СА, 1972, № 1, с.306-307.
212. ПСРЛ, т.1, стб.455.
213. Там же, т.15, стб.355.
214. НПЛ, с.477.
215. ПСРЛ, т.15, стб.221.
216. Бережков Н.Г. Указ. соч., с.64, 156.
217. Всеволод-Дмитрий Юрьевич родился 19 октября. О пребывании Юрия в это время в Ростовской земле говорят Ипатьевская и Лаврентьевская летописи. - ПСРЛ, т.2, стб.468; т.1, стб.341,
218. Татищев В.Н. Указ. соч., т.3, с.44, 241, примеч.458. То же и в первой редакции «Истории...», за исключением Костромы (Там же, т.4, с.242, 442, примеч.325).
219.
Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства,
с.27-28; с.27, примеч.3. Юрий основал лишь города Кснятин, Юрьев, Дмитров,
Москву и перевел на новое место Переяславль. Тем не менее ошибочное
предположение В.Н.Татищева дало повод отметить в 1977 г . 825-летний юбилей
г.Костромы.
220. Воронин Н.Н. Зодчество..., т.1, с.55-56.
221. Очерки по истории русской деревни Х-XIII вв., с.147 (Перемышль), 143 (Звенигород), 162 (Кидекша; отнесена к сельским поселениям).
222. ПСРЛ, т.24, с.77.
223. ПСРЛ, т.2, стб.366. Иногда встречается утверждение, что Ростислав княжил в Суздальской земле (см.: Насонов А.Н. История русского летописания..., с.160 и примеч.65). Но глагол «княжилъ» (в статье 6683 года) есть только в Лаврентьевской летописи. В Радзивилловской и Московско-Академической стоит «жилъ» (ПСРЛ, т.1, стб.372 и вар.46). Во всех списках Ипатьевской летописи читается «былъ» (ПСРЛ, т.2, стб.596). Очевидно, в протографе этих летописей указания на княжение Ростислава в Суздале не было.
224. Там же, т.2, стб.384.
225. Там же, т.1, стб.335. Согласно Ипатьевской летописи, «АндрЪи испросися оу отца напередъ Суждалю... и иде въ свои домъ» (Там же, т.2, стб.444).
226. Там же, т.2, стб.394, 396, 398, 404, 409, 417, 418, 425, 431, 437.
227. Бережков Н.Г. Указ. соч., с.61.
228. ПСРЛ, т.2, стб.478.
229.
Там же, стб.482; ГБЛ, ф.98, № 637, л .38.
230. ПСРЛ, т.1, стб.371, 372; т.2, стб.595.
231. Там же, т.1, стб.379.
232.
Там же, т.2, стб.478-479. Василий, в 1149 г . получивший Суздаль,
в 1155 г .
получил Поросье.
233. Там же, т.2, стб.489. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.168.
234. ПСРЛ, т.1, стб.346; т.2, стб.482.
235. Там же, т.15, стб.225.
236.
Платонов С.Ф. Указ. соч., с.96-98; А.Н.Насонов (Насонов
А.Н. «Русская земля»..., с.186-187) и вслед за ним Н.Н.Воронин (Воронин Н.Н.
Зодчество..., т.1, с.56), считая достоверной летописную дату - 1156 г ., подвергают сомнению
достоверность содержания записи, полагая, что Москву укреплял не Юрий, а
Андрей.
237.
Южнорусские источники не говорят о пребывании Юрия на Юге,
по крайней мере в первой половине 1156 г . - ПСРЛ, т.2, стб.483-485.
238. Там же, стб.490. В Лаврентьевской летописи о владимирпах и г.Владимире не упоминается (Там же, т.1, стб.348).
239. Там же, т.2, стб.491-492; 517, 519, 520.
240. Там же, стб.514, 539.
241. НПЛ, с.30. Изгнание Мстислава произошло несколько раньше смерти Юрия.
242. Там же, с.31.
243.
Борис Юрьевич умер 2 мая 1159 г . - ПСРЛ, т. 1,
стб.349.
244.
Там же, т.2, стб.520, под 6670 г . ультрамартовским. О
дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.173. О термине «самовластепь» см.:
Шахматов А.А. Обозрение..., с.96.
245. ПСРЛ, т.2, стб.521,544.
246.
К последним, несомненно, принадлежал Борис Жидиславич, или
Жирославич, сын Жирослава, боярина Юрия Долгорукого. - Там же, стб.479, 543,
560, 565; ГБЛ, ф.98, № 637, л .389-389об.
247.
ГБЛ, ф.98, № 637,
л .385; ПСРЛ, т.1, стб.352.
248. ПСРЛ, т.1, стб.353.
249. Там же, стб.366.
250. В 70-х годах XII в. Кидекша, возможно, была укреплена. - ПСРЛ. СПб., 1907, т.17, стб.2.
251. Там же, т.1. стб.349, 417.
252. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.188.
253. Там же, с.93, 105.
254. Там же, с.107-108.
255. Там же, с.108. Нельзя признать справедливым мнение А.В.Кузы, считающего, что в район верхней Сухоны новгородцы проникли со стороны Белоозера (Куза А.В. Указ. соч., с.191-192). Лингвистические материалы подтверждают правильность точки зрения А.Н.Насонова (Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970, карта «Диалектологическая карта русского языка»).
256. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.109.
257. В Уставной грамоте 1136/37 г. князя Святослава Ольговича новгородской церкви св.Софии упомянут погост Тошьма (а не Тотьма, как принимал А.Н.Насонов) (См. в кн.: Древнерусские княжеские уставы, с.148). По названию погост локализуется в районе р.Тошны (Тошмы), правого притока р.Вологды.
258. Монгайт А.Л. Абу-Хамид ал-Гарнати и его путешествие в русские земли 1150-1153 гг. - История СССР, 1959, № 1, с.170.
259. Там же, с.171-172.
260. ПСРЛ. М.; Л., 1949, т.25, с.116.
261. НПЛ, с.28.
262. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.188: «Но достоверно мы не знаем, где разыгрались эти события и куда шли новгородские "даньници"». Но на с.107 те же события приурочиваются к Подвинью более определенно.
263. ПСРЛ, т.5, вып.1, с.165.
264. Воронин Н.Н. Зодчество..., т.1, с.56; Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на Волге. - В кн,; Культура древней Руси. М., 1966, с.158,159.
265. ПСРЛ, т.24, с.77.
266.
ГБЛ, ф.98. № 637,
л .384, 385-385об.; ПСРЛ, т.1, стб.352.
267.
ГБЛ. ф.98, № 637,
л .384.
268. ПСРЛ, т.1, стб.470.
269. Там же, стб.348; т.2, стб.491.
270. Там же, т.2, стб.599. Здесь упомянут «городъ». В Лаврентьевской стоит «городы» (ПСРЛ, т.1, стб.375). Последнее несколько сомнительно, так как иные города, кроме Гороховца, принадлежавшие Владимирскому собору, неизвестны.
271. Археологический материал также свидетельствует о существовании г.Гороховпа в XII в. - Седов В.В. Раскопки в Гороховце. - КСИИМК, М., 1959, № 77, с.88.
272. Мещерск как волость и центр волости упоминается в актах первой половины XV в. (АСВР, т.2, с.479, 481, т.3, с.467, 470, 471). О том, что Мещерск - позднейший Горбатов, см. в кн.: Нижегородская губерния. Список населенных мест. СПб., 1863, с.XXI, XXIV.
273. ПСРЛ, т.1, стб.364.
274. Медведев А.Ф. Указ. соч., с.161.
275. ПСРЛ, т.17, стб.2.
276. Шахматов А.А. Обозрение..., с.344.
277.
Зеленец. О христианстве, как оно началось и
распространялось в пределах нынешней Нижегородской епархии (Нижегородские
епархиальные ведомости, часть неофициальная, 1865, № 17, с.36-37). Уход Юрия из
Городца Остерского Зеленец ошибочно датировал 1152 г . вместо 1151 г . (см. также:
Нижегородские епархиальные ведомости, 1886, 1 февр., № 3, с.15). Эти домыслы
перекочевали и в современную краеведческую литературу, а в 1952 г . был даже отмечен 800-летний
юбилей Городца.
278.
Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.191. Годом основания
...Городца А.Н.Насонов предположительно считал 1164 г .
279. ПСРЛ, т.1, стб.353; Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.190.
280. НПЛ, с.33. А.Н.Насонов, излагая события по Новгородской I летописи, в то же время приводит известие и Новгородской IV летописи о том, что столкновение произошло на Белоозере, и как будто склоняется к признанию достоверности последнего сообщения {Насонов А.Н. «Русская земля...», с.190). Однако выше он вполне убедительно показал позднейшую редакционную обработку рассказа в Новгородской IV летописи (Там же, с.109-110). Необходимо признать, что столкновение и сбор дани с суздальских смердов имели место в Заволочии, а не на Белоозере.
281. Это озеро называет местом своего жительства (ссылки?) известный древнерусский писатель Даниил Заточник (Зарубин Н.Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII-XIII вв. и их переделкам. Л., 1932, с.8, 61, 87). Скорее всего, Даниил писал на Северо-Востоке {Воронин Н.Н. Даниил Заточник. - В кн.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, с.57-60; Рыбаков В.А. Даниил Заточник и Владимирское летописание конца XII в. - В кн.: Археографический-ежегодник за 1970 год. М., 1971, с.51, 59), поэтому Лаче-озеро следует относить к владимирской, а не к новгородской, как полагали некоторые исследователи, территории. И в XIV в. это владение московское, а не новгородское (ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.136).
282. ПСРЛ, т.15, стб.250-251.
283.
Там же, т.1, стб.373-374; т.2, стб.597-598. В обеих
летописях под 6683 г .
ультрамартовским. О дате см.: Бережков Н. Г. Указ. соч., с.78-79; 191-192.
284. ПСРЛ, т.1, стб.377; т.2, стб.601-602. О дате см.: Бережков Н. Г. Указ. соч., с.79, 193-194.
285. ПСРЛ, т.1, стб.377; НПЛ, с.34.
286. ПСРЛ, т.1, стб.379; НПЛ, с.34.
287. ПСРЛ, т.1, стб.380.
288. О дате смерти Михалки см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.79-80, 314-315.
289. ПСРЛ, т.1, стб.384-385. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.194.
290. Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись. - В кн.: Историко-филологический сборник. Сыктывкар: АН СССР. Коми филиал, 1958, вып.4, с.257. В тексте, по-видимому, опечатка: вместо «лета 6636» следует читать «лета 6686». Древний Устюг до XV в. был расположен в четырех км от совреценного, ниже по Сухоне, при слиянии рек Сухоны и Юга (Никитин А.В. Раскопки в Великом Устюге. - КСИА, М., 1963, № 96, с.79, 84).
291.
Летописец Переяславля Суздальского. - Временник МОИДР. М.,
1851, кн.9, с.111, под 6622 г .
ультрамартовским. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.103; ПСРЛ, т.25,
с.110. Последний фрагмент относится к Владимирскому летописцу великого князя
Юрия Всеволодовича (Насонов А.Н. История русского летописания..., с.222).
292. ПСРЛ, т.25, с.111.
293. Там же, с.116.
294. НПЛ, с.37.
295. ПСРЛ, т.2, стб.625.
296. Там же, т.1, стб.389; т.2, стб.625-626; НПЛ, с.37. О дате похода см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.82. 201.
297. ПСРЛ, т.2, стб.626.
298. Там же, т.1, стб.390.
299. Там же, стб.400. О дате похода см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.83.
300. ПСРЛ, т.1, стб.389.
301.
Н.Н.Воронин предполагал, что Кострома существовала уже в XI
в. (Зодчество..., т.1, с.24). Но в 1152 г . булгары подошли по Волге к Ярославлю
«без вЪсти». Прав А.Н.Насонов, относя основание Костромы к значительно более
позднему времени (Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.194).
302. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.193. Выражение «Костромского княжества» неточно. Речь должна идти о костромских волостях XV-XVI вв.
303. ДДГ, с.351,437.
304. Там же, с.43.
305. Должно быть отвергнуто мнение некоторых топонимистов, будто заселение Унжи и вообще Среднего Поволжья шло из правобережных районов современных Ивановской и Костромской областей. Подробнее об этом см.: Кучкин В.А. Некоторые вопросы исторической интерпретации топонимов на -иха. - В кн.: Ономастика Поволжья. Уфа, 1973, вып.3.
306. ПСРЛ, т.25, с.116.
307. НПЛ, с.38,229.
308. ПСРЛ, т.1, стб.388; т.2, стб.614-616; НПЛ, с.36. Цитата из НПЛ. О дате события см.: Бережков Н.Л. Указ. соч., с.81, 200, 246 и с.339, примеч.155.
309. НПЛ с.36
310. ПСРЛ, т.2, стб.618,620.
311. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.3, примеч.59. Мнение Н.М.Карамзина принято современными исследователями (Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.193; Тихомиров М.Н. Древнерусские города, с.411).
312. ПСРЛ, т.25, с.107.
313. ГВН и П, с.9,11,12.
314. НПЛ, с.37; ПСРЛ, т.1, стб.388. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с,78, 237.
315. ПСРЛ, т.1, стб.388.
316.
ПСРЛ, т.1, стб.414 (текст Радзивилловской и
Московско-Академической летописей), под 6705 г . ультрамартовским. О дате см.: Бережков
Н.Г. Указ. соч., с.85.
317. ПСРЛ, т.1, стб.414.
318. НПЛ, с.43.
319. Насонов А. Н. «Русская земля»..., с.193.
320.
Характерно, что в 1181 г . сидевший на новгородской части Торжка
Ярополк грабил соседние владимиро-суздальские земли по Волге, а в 1197 г . Ярослав, посаженный
на владимирской части Торжка, брал дани на Бежецком Верхе, в Поместье и Волоке
Ламском, т.е. на территориях, подвластных Новгороду. Говорить о разделении
ростовских и новгородских владений в Поволжье можно вполне определенно.
321. ПСРЛ, т.25, с.111.
322.
Там же, т.1, стб.387, под 6686 г . мартовским. О дате
см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.80.
323. НПЛ, с.43.
324. Возможно, расширение владимирской территории за счет новгородской в районе Волока Ламского началось еще при Андрее Боголюбском. Ср.: ПСРЛ, т.2, стб.509-510.
325. О датах см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.83, 100.
326. ПСРЛ, т.1, стб.406.
327. Там же, стб.430.
328. Там же, стб.434. О дате события см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.89.
329.
Летописец Переяславля Суздальского, с.109, под 6718 г .
330. Смолицкая Г.П. Указ. соч., с.120, 121.
331. НПЛ, с.42-43; ПСРЛ, т.1, стб.413, 420.
332. ПСРЛ, т.1, стб.434.
333. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.15, примеч.63; с.66, примеч.215.
334. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства, с.43, примеч.1.
335. Насонов А.Н. «Русская земля»..., с.194, примеч.1. Ср.: Сергеевич В.И. Лекции по истории русского права 1886/87 г. СПб., 1888, с.18. Но В.И.Сергеевич допускал ошибку, полагая, что Константину были даны всего пять городов (среди них - Ростов), а не пять городов к Ростову. Видимо, поэтому он не упомянул Мологу.
336.
ПСРЛ, т.25, с.108, под 6719 г .
337. Там же.
338.
В одном из монастырей Боголюбова Юрием Владимирским был
насильно пострижен суздальский епископ Иоанн (ПСРЛ, т.1, стб.438, под 6722 г .; Летописец
Переяславля Суздальского, с.112).
339.
ПСРЛ, т.1, стб.445, под 6730 г .
340.
Летописец Переяславля Суздальского, с.111, под 6721 г .
341. ПСРЛ, т.25, с.112 (городецкий полк в составе войска великого князя Юрия).
342.
Летописец Переяславля Суздальского, с.111, под 6722 г .
343. Там же.
344. Там же, с.110.
345. Там же, с.112.
346.
НПЛ, с.53, под 6723 г .
347.
ПСРЛ, т.25, с.111, под 6724 г .
348. Там же.
349.
Летописец Переяславля Суздальского, с.111, под 6722 г ,
350. Летописец Переяславля Суздальского, с.110.
351. ПСРЛ, т.25, с.114.
352. Там же.
353. Там же, с.115.
354. Там же, с. 116. О дате смерти Константина см.: Бережков Н. Г. Указ. соч., с.105.
355. ПСРЛ, т.25, с.115.
356. Там же, т.1, стб.470; ср.: стб.452.
357.
Там же, с.109. Известие о передаче великим князем Юрием
Всеволодовичем г.Юрьева своему брату Святославу стоит здесь после сообщения о
рождении у Юрия сына Дмитрия, что случилось 23 октября (ПСРЛ, т.1, стб.438).
Следовательно, передача имела место между 24 октября 1212 г . и 28 февраля 1213 г . Последней датой
должна заканчиваться статья 6720
г . в т.25 ПСРЛ.
358. Там же, т.1, стб.442.
359. Ср.: Там же, стб.467 (Стародуб в руках владимирского князя).
360. Там же, т.25, с.116-117.
361. Там же, с.117.
362. там же, т.1, стб.445. Что Нижний Новгород был основан в том месте, которое ныне занимает Горьковский кремль, свидетельствует и данные письменных источников, и проведенные археологические раскопки (Кучкин В.А. О Нижних Новгородах - "старом" и "меньшом". - История СССР, 1976, № 5; Кирьянов И.А., Черников В.Ф. У истоков истории г.Горького: К итогам археологических раскопок в Нижегородском кремле. - Горьковская правда, 1964, 21 окт.).
363.
ПСРЛ т.1, стб.447, под 6733 г .; стб.451, под 6737 г .
364. Там же, стб.448-449. Подробнее об этих и других походах владимирских князей на Булгарию см.: Кучкин В.А. О маршрутах походов..., с.42-45.
365. ПСРЛ, т.1, стб.451.
366.
ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.54, под 6738 г .
367. Там же, т.1, стб.464.
368. Там же, т.25, с.116,117.
|
|
|
|
ГЛАВА ВТОРАЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ КНЯЖЕСТВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ В 1238-1300 гг.
Походы монголо-татар 1237—1239 гг. на Северо-Восточную Русь привели к невиданному до тех пор опустошению страны, массовому уничтожению населения, разрушению многих городов. Слова летописца, описавшего Батыево нашествие, о том, что «нЪсть мЪста, ни вси (т.е. веси.— В. К.), ни селъ тацЪх рЪдко, иде же не воеваша на Суждальскои земли» [1], хотя, возможно, и написаны поздно [2], в целом верно отразили картину ужасающего погрома и запустения земли. И после Батыя ордынские ханы неоднократно организовывали жестокие карательные экспедиции на русский Северо-Восток. Особенно широкий размах они приняли в 1252,1281 и 1293 гг. [3]
Иноземное иго привело не только к политическому подчинению каракорумским и сарайским правителям русских князей, нарушению исторических связей северо-восточных княжеств с княжествами южной «Русской земли» [4], усилению обособления Новгорода и Пскова, прекращению в первые десятилетия чужеземного господства церковного и городского строительства в Северо-Восточной Руси, но и к консервации ее территории, а в рамках последней — к упадку ряда старых княжеств и к появлению и возвышению новых государственных образований, определивших дальнейшие исторические судьбы Руси [5]. Как безнадежный анахронизм воспринимаются теперь суждения крупного русского историка конца XIX—начала XX в., предлагавшего забыть «на некоторое время, что прежде, чем сошло со сцены первое поколение Всеволодовичей, Русь была завоевана татарами... Явления, которые мы наблюдаем в Суздальской земле после этого разгрома (речь идет о процессах феодального дробления. — В.К.), последовательно, без перерыва развиваются из условий, начавших действовать еще до разгрома, в XII в.» [6] На самом деле в период монгольского господства формирование территорий княжеств Северо-Восточной Руси проходило под опосредованным, а иногда и прямым воздействием Орды.
К сожалению, ход этого процесса до конца XIII в. освещен в историографии очень скупо, а современные исследователи не уделяют ему вообще никакого внимания, тем самым неполно и неточно оценивая последствия Батыева завоевания для русских земель. Известным их оправданием служит крайняя лапидарность источников, преимущественно летописных, испытавших, как и другие области древнерусской культуры, иссушающее воздействие монголо-татарского ига.
Тем не менее еще С.М.Соловьев, пытаясь объяснить возвышение Москвы в послемонгольское время, обращал внимание на приток населения в Московское княжество не только с Юга, но «и из ближайших областей — Рязанской, Тверской, Ростовской, постоянно менее безопасных...» [7]. Возможно, эта мысль С.М.Соловьева стала отправной для М.К.Любавского, много сделавшего для изучения исторической географии Восточно-Европейской равнины периода средних веков и наметившего верный путь для разъяснения специфики территориального развития Северо-Восточной Руси в ордынский период. По мнению М.К.Любавского, после нашествия Батыя и под влиянием последующих походов монголо-татар начался переход населения с востока и центра Суздальщины на ее более безопасные в военном отношении западные окраины: Тверь и Москву [8]. Тем самым вскрывалась причина быстрого усиления не только Московского, но и Тверского княжества, уже в последней трети XIII в. начавших играть крупную политическую рель на русском Северо-Востоке. Один и тот же демографический фактор привел к появлению и развитию двух новых, неизвестных в домонгольский период северо-восточных русских княжеств, образовавшихся на пограничье старой Суздалыцины. География политических центров на Северо-Востоке изменилась. Это предопределило ту территориальную основу, которая в дальнейшем стала базой объединения страны.
К мнению М.К.Любавского о причинах роста Москвы и Твери присоединился такой осторожный исследователь, как А.Е.Пресняков [9]. Однако в последующее время вывод М.К.Любавского не был должным образом оценен и развит. Констатируя плодотворность предложенного М.К.Любавским разъяснения подъема так называемых «младших городов» в Северо-Восточной Руси после монголо-татарского нашествия, в то же время нельзя не указать на неполный и недостаточный анализ материала, проведенный исследователем. В результате этого некоторые заключения М.К.Любавского представляются не всегда обоснованными, а то и прямо ошибочными. Последнее относится к определению главных направлений походов монголо-татар и связанному с ними перемещению населения Северо-Восточной Руси, времени возникновения и стабилизации здесь различных княжеств, не только Московского и Тверского.
Очевидно, что для получения верной картины эволюции государственной территории Северо-Восточной Руси в послемонгольское время необходимо изучить данные, относящиеся ко всем без исключения княжествам этого региона. Такому изучению должен быть предпослан перечень тех городов и районов, которые в XIII в. стали объектами военных нападений монголо-татар. Тогда станут понятными особенности политической карты русского Северо-Востока ковца XIII в.
Описок северо-восточных городов и относящихся к ним территорий, на протяжении XIII в. испытавших удары монголо-татарских ратей, достаточно обширен.
Стольный Владимир был четырежды взят и ограблен
монголо-татарами. В 1238 г .
укрепления города частично были разрушены [10]
(вероятно, стены Нового города [11]), частично пострадали
от пожара (Печерский город) [12]. Успенский собор был
подожжен и разграблен [13], население перебито [14].
С большой долей вероятности можно полагать; что Владимир или его округа
пострадали и в 1252 г .,
когда великий князь Владимирский Андрей Ярославич отказался, по выражению
летописи, «цесаремъ служити» [15], т.е. ханам. Владимир
был резиденцией Андрея, и ордынская экспедиция, направленная против него, не
могла, конечно, не предпринять каких-то репрессий к населению столицы и ее
окрестностей, в частности к боярам, поддержавшим своего князя [16].
В 1281 г .
места около Владимира были пограблены монголо-татарами, пришедшими с князем
Андреем Александровичем на великого князя Дмитрия — старшего брата Андрея [17]. Наконец, в 1293 г . рать Дюденя, приведенная тем же Андреем
Александровичем, «Володимерь взяша и церкви пограбиша, и дно чюдное мЪдяное
выдраша (в Успенском соборе. — В.К.), и книги, и иконы, и кресты честныя, и
сосуды священныя, и всяко узорочие пограбиша, а села и волости, и погосты, и
монастыри повоеваша...» [18].
Небольшой городок Волок Ламский первый раз был захвачен
монголо-татарами в 1238 г .
[19] В 1293
г . отряды Дюденя и войска Андрея Александровича «Волокъ
взяша, а люди из лЪсовъ изведоша» [20].
Галич Мерский, по-видимому, пострадал от монголо-татар в 1238 г ., когда полчища Батыя
«плЪниша все по ВолзЪ доже и до Галича Мерьскаго» [21].
В тот же поход монголо-татарами был взят и Городец Радилов на Волге [22].
Гороховец монголо-татары «пожгоша» осенью 1239 г . [23]
В нашествие Батыя и в «Дюденеву рать» были захвачены Дмитров [24] и Москва [25], причем Дюдень с войсками союзных русских князей «взяша Москву всю и волости и села» [26].
Тяжкие удары монголо-татар испытал Переяславль Залесский. В
1238 г .
город был захвачен войсками Батыя [27]. В 1252 г . монголо-татары,
настигшие было непослушного им великого князя Андрея Ярославича у Переяславля,
«россунушася по земли... и людии бе-щисла поведоша (в плен.— В.К.), до конь и
скота» [28]. В 1281 г . монголо-татары «около Переяславля все
пусто сътвориша и пограбиша люди» [29]. Немудрено, что в 1293 г . при слухах о рати
Дюденя население Переяславля и соседних волостей разбежалось. Монголо-татары
стояли у Переяславля «много дней, поне же людеи нЪсть, выбЪгли ис Переяславля» [30].
Иногда считают, что в Батыево нашествие Ростов избежал
печальной участи других русских городов и не пострадал от монголо-татар [31]. Судят так на основании фразы Новгородской I летописи
старшего извода: «Ростовъ же и Суждаль разидеся розно» [32].
Но приведенные названия обозначают в данном случае не города, а ростовские и
суздальские отряды, бывшие на р.Сити в составе войска великого князя Юрия и
спасшиеся бегством от разгрома. О захвате монголо-татарами Ростова в 1238 г . сообщает
Лаврентьевская летопись [33]. В 1281 г . монголо-татарская
рать опустошила окрестности Ростова, ограбила ростовские села [34].
Старинный Суздаль был разорен трижды. В 1238 г . монголо-татары «взяша
Суждаль и святу Богородицю разграбиша, и двор княжь огнемь пожгоша и манастырь
святаго Дмитрия пожгоша, а прочии разграбиша» [35].
В 1281 г .
они опустошили окрестности Суздаля [36], а в 1293 г . рать Дюденя «градъ
весь взяша» [37].
В Твери монголо-татары появились впервые в 1238 г . Здесь ими был убит
сын Ярослава Всеволодовича [38]. В 1281 г . они, по
свидетельству летописи, «около ТфЪри пусто сътвориша» [39].
В 1293 г .
специальный поход на Тверь предпринял хан Токтомер и «велику тягость учини
людемъ, овЪхь посече, а овЪхъ въ полонъ поведе...» [40].
Торжок брался монголо-татарами лишь однажды — в 1238 г . [41]
Прямое свидетельство о захвате ордынскими войсками Углича
встречается в летописи под 1293
г . [42] Возможно, Углич
пострадал от монголо-татар еще раньше в 1238 г . Лаврентьевская летопись сообщает, что
после взятия Переяславля полки Батыя «оттолЪ всю ту страну и грады многы, все
то плЪниша доже и до Торжку...» [44]. В числе «градов
многих» был, вероятно, и Углич. Во всяком случае, археологическое обследование
селищ около Углича указывает на их запустение в связи с нашествием
монголо-татар [44].
Несомненно, что среди «градов многих», плененных Батыем,
был Юрьев. Через него шла дорога от Владимира на Переяславль. В 1238 г . оба последних города
были взяты монголо-татарами. Не мог избежать этой участи и лежавший между ними
Юрьев. В 1281 г .
монголо-татары ограбили окрестности Юрьева [45],
а в 1293 г .
ратью Дюденя был захвачен сам город [46].
До стоявшего сравнительно далеко на севере Ярославля
монголо-татары добрались лишь один раз — в 1238 г . [47]
Как показывает приведенный материал, наиболее частым нападениям монголо-татар подвергались Владимир, Переяславль Залесский, Суздаль, Юрьев, а также Тверь. По географическому признаку эти города можно разделить на две группы. Одну группу составляют первые четыре города. Все они лежали в самом центре древней Ростово-Суздальской земли, в ее наиболее плодородной, богатой и обжитой части. Если не считать Ростова, именно эти города были самыми крупными в Северо-Восточной Руси в домонгольское время, на их обладании базировалась политическая и военная мощь владимиро-суздальских князей. Поэтому далеко не случайно, что удары монголо-татар направлялись прежде всего на Владимир, Переяславль, Суздаль и Юрьев. Разгрому периодически подвергались старые, давно колонизованные и густо населенные районы. Таким образом подрывалась материальная основа могущества князей Северо-Восточной Руси, особенно старшего из них — великого князя Владимирского, в корне пресекались возможность их усиления, стремление к объединению и отпору завоевателям. Со стороны монголо-татар это была продуманная политика, направленная на сохранение и упрочение своего господства над русскими землями.
От указанной группы четко отделяется Тверь. Она не меньше, чем центральные области, подвергалась в XIII в. нападениям монголо-татар. Эти нападения на самое западное княжество Северо-Восточной Руси имели целью уменьшить силу тверских князей, политическое значение которых v последней трети XIII в. серьезно возросло. Тверские князья даже отваживались на открытую борьбу с Ордой [48]. Однако вторжения монголо-татар на тверскую территорию не привели к ее запустению и обезлюдению. Дело в том, что с 40-х годов XIII в. усилился натиск Литвы на западные русские земли [49], и население этих земель стало сдвигаться к востоку в районы Твери, отчасти Москвы [50].
* * *
Походы Батыя и последующие карательные экспедиции
монголо-татар оказали заметное влияние на формирование территорий княжеств
Северо-Восточной Руси во второй половине XIII в. В 70-е годы XIII в. на
Северо-Востоке насчитывалось 14 княжеств вместо 6, существовавших к 1237 г . К этому надо
добавить, что территории двух наиболее крупных из них, Владимирского,
остававшегося главным, и Переяславского, слились воедино в результате того, что
Ярослав Переяславский, после гибели брата Юрия Всеволодовича на р.Сити
оказавшийся старшим среди потомков Всеволода Большое Гнездо, в 1238 г . стал великим князем
Владимирским [51]. Однако в том же 1238 г . он передал брату
Святославу Суздаль, а брату Ивану — Стародуб [52].
Начался процесс трансформации прежних владимирской и переяславской земель,
приведший к появлению новых княжеств. Все детали этого процесса, в том числе
такие важные, как точный состав вновь образовавшихся княжеств, даты их
появления и исчезновения, из-за фрагментарности источников не всегда
определимы, но в целом процесс этот фиксируется достаточно четко всей
совокупностью данных.
Стародубское княжество так и осталось за Иваном Всеволодовичем и его родом. В XIII в., именно под 1276 и 1281 гг., упоминается князь Михаил Иванович, в котором с основанием видят сына Ивана Стародубского [53]. В XIV в. потомки князя Ивана фигурируют с вполне определенными прозвищами Стародубских [54], для той поры служащими свидетельством существования Стародубского княжества.
Что касается княжества Суздальского, то его судьба была
более сложной. Прежде всего необходимо выяснить, что означала передача Суздаля
Святославу Всеволодовичу. В предыдущей главе говорилось, что в 1212/13 г. князь
Святослав получил от своего брата великого князя Юрия Юрьев Польской. Этим
княжеством он и владел до 1237
г . Переход в его руки в 1238 г . Суздаля не может не
возбудить вопроса относительно того, был ли Суздаль дан Святославу вместо
Юрьева или же он был придан к Юрьеву.
А.В.Экземплярский считал, что Святослав Всеволодович одновременно владел и Юрьевом, и Суздалем, причем центром его княжения стал Суздаль [55]. А.Е.Пресняков рассматривал Суздаль как какое-то особое владение Святослава, полученное им в качестве наследника владимирского великокняжеского стола [56]. Статус юрьевской территории в тот период А.Е.Пресняков не определял.
Заключение А.В.Экземплярского основано на недоразумении. Он
полагал, что в 1242 г .
Святослав Всеволодович украсил Георгиевский собор в Юрьеве, и выводил отсюда
факт принадлежности последнего Святославу. На самом деле украшение юрьевского
собора относится к 1234 г .
[57] Никаких прямых известий за послемонгольское время,
связывающих князя Святослава с Юрьевским княжеством, в летописях нет. По
аналогии со Стародубом нужно думать, что в 1238 г . стольным городом
Святослава стал Суздаль. Юрьевское же княжество вошло в состав владений
великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. Так, впрочем, продолжалось
всего несколько лет.
Когда 30 сентября 1246 г . умер отравленный монголо-татарами
великий князь Ярослав, владимирский стол занял Святослав Всеволодович. Своих
племянников он «посади по городом, яко же ,бЪ имъ отець оурядилъ Ярославъ» [58]. У Ярослава оставалось семь сыновей [59],
и сам факт наделения каждого из них княжеством означал дробление старой
владимирско-переяславской территории на ряд более мелких владений. Ярославичи
остались недовольны распределением между ними столов их дядею. В 1247 г . князь Андрей
Ярославич отправился к Батыю, очевидно, хлопотать о расширении своей отчины. За
ним последовал Александр Невский [60]. А их брат Михаил
Хоробрит в 1248 г .
согнал с великого княжения Святослава Всеволодовича и сам стал владимирским
князем [61]. Зимой 1248/49 г. Михаил погиб в сражении
с литовцами [62], а в конце 1249 г . на Русь вернулись из
Каракорума, Александр и Андрей. Монголо-татары «приказаша Олександрови Кыевъ и
всю Русьскую землю, а Андреи сЪде в Володимери на столЪ» [63].
Передача Невскому Киева и Южной Руси была, по-видимому, фикцией. Александр Ярославич
предпочел этой разграбленной монголо-татарами области нетронутый ими Новгород
Великий. Там он пробыл до 1252
г ., когда получил ярлык на великое княжество
Владимирское и «старЪишиньство во всей братьи его» [64].
Андрей же Ярославич, рискнувший перестать «цесаремъ служити», был лишен
владимирского стола и был вынужден искать пристанища в Швеции [65].
Бурные события конца 40 — начала 50-х годов XIII в. в Северо-Восточной Руси, видимо, сопровождались частыми перемещениями князей, возникновением и ликвидацией княжеств, но с вокняжением во Владимире Александра Невского политическое положение в основном стабилизировалось.
От 1250 г .
сохранилось известие о поездке князя Святослава Всеволодовича с сыном Дмитрием
в Орду [66]. Хотя цель поездки в летописи скрыта, но
такие путешествия русских князей с сыновьями-наследниками к ханам обычно
совершались тогда, когда речь шла о закреплении за Рюриковичами их
княжеств-отчин [67]. Очевидно, к 1250 г . Святослав уже
обладал таким княжеством. Поскольку правнук Святослава носил прозвище
Юрьевского [68], можно думать, что в 1250 г . Святослав владел уже
не Суздальским, а Юрьевским княжеством. С Суздальским княжеством Святослав
Всеволодович мог расстаться или в 1247 г ., когда, став великим князем, он уступил
его одному из своих племянников [69], или в 1248 г ., когда он потерял
Владимирское княжение [70]. Во всяком случае, в юрьевского князя
Святослав превратился, по-видимому, в результате событий 1248 г . Таким образом,
Суздаль был в руках Святослава Всеволодовича примерно до 1247—1248 гг.
Произошло ли в 1247 г .
воссоединение территорий Суздальского и великого Владимирского княжеств или же
Суздальское княжество продолжало функционировать, но уже под властью одного из
Ярославичей, сказать трудно. Бесспорно, однако, что позже, во второй половине
XIII в., Суздальское княжество существовало. Свидетельства тому — известие 1264 г . о смерти князя
Андрея Ярославича Суздальского и сообщение под 1279 г . о кончине сына
Андрея князя Юрия Суздальского и захоронении его в Суздале в соборной церкви
Богородицы [71].
Князь Андрей, бежавший в 1252 г . от монголо-татар «за
море», к 1257 г .
был уже на Руси [72]. В том году он ездил в Орду и
вернулся вместе с Александром Невским и Борисом Ростовским «въ свою отчину» [73]. По-видимому, поездка Андрея к хану была вызвана
необходимостью утверждения за ним княжества, и именно Суздальского. Суздаль
должен был выделить ему великий князь Александр Ярославич. Если так, то надо
полагать, что до 1257 г .
Суздаль входил в состав земель великого княжества Владимирского. А поскольку
Александр стал великим князем в 1252
г ., можно считать, что по меньшей мере в 1252—1257 гг.
суздальская территория составляла единое целое с владимирской. Из сказанного
следует, что Суздальское княжество как самостоятельная политическая единица на
протяжении 1238—1257 гг. существовало с перерывами. И только в 1257 г . оно окончательно
выделилось из состава великого княжества Владимирского.
История другого старого центра Северо-Восточной Руси — Переяславля — за первые 10—15 лет ордынского ига также представляет много неясного. Правда, в свое время А.В.Экземплярский был убежден, что Переяславское княжество еще при жизни отца, т.е. в период между 1238 и 1246 гг., получил Александр Невский. По его мнению, «Переяславль, по образовании великого княжества Владимирского, был как бы необходимой принадлежностью этого последнего: великие князья сажали в нем или сыновей своих, или самых близких родичей...» [74]. И старший сын Ярослава Всеволодовича Александр, по утверждению А.В.Экземплярского, «сидел в Переяславле не только при отце, но и при великих князьях — его преемниках», владел Переяславлем «до занятия им великокняжеского стола» [75].
Наблюдения и заключения А.В.Экземплярского были поддержаны и развиты А.Е.Пресняковым. Он пришел к выводу, что в послемонгольское время Переяславское княжество постоянно передавалась по нисходящей линии старшему из сыновей великого князя, который являлся преемником отца на столе великого княжения Владимирского. «Тесная и длительная связь переяславского стола с великим княжением, — обобщал А.Е.Пресняков, — наложила особую печать на отношение князей к Переяславлю и придала ему несколько исключительное значение» [76].
Между тем представление исследователей о принадлежности
Переяславского княжества Александру Ярославичу в 1238—1252 гг. зиждется на
единственном летописном известии 1240
г ., причем в редакции поздних летописных сводов [77]. Если же обратиться к наиболее раннему летописному
памятнику, сохранившему это сообщение, то там читается следующий текст: «В то
же лЪто, той же зимы выиде князь Олександръ из Новагорода къ отцю в Переяславль
съ матерью и с женою и со всЪмь дворомь своимь, роспЪвъся с новгородци» [78]. Сама терминология сообщения («къ отцю в Переяславль», а
не «к себЪ в Переяславль»), уход в Переяславль старшего Ярославича с матерью,
для которой естественнее пребывание в великокняжеском городе, а не в центре
удельного княжения, отсутствие в Переяславле каких-либо представителей «своего
двора» князя Александра говорят о том, что Переяславль принадлежал не Невскому,
а его отцу, великому князю Ярославу Всеволодовичу.
Характерно, что современник Александра Ярославича, составивший его жизнеописание, «отечеством» Александра называл Новгород Великий [79], о Переяславле же не упоминал совершенно.
Показательно также сообщение Новгородской I летописи
старшего извода об отражении в 1245
г . нападения литовцев на Торжок и Бежицы: «Погониша по
нихъ Явидъ и Ербетъ со тфЪричи и дмитровци, и Ярославъ с новоторжьци; и биша я
подъ Торопчемь, и княжици ихъ въбЪгоша в Торопечь. Заутра приспЪ Александръ с
новгородци, и отяша полонъ всь...» [80]. Благодаря этой
записи выясняется, что Тверь и Дмитров, составные части Переяславского
княжества домонгольской поры, управлялись наместниками Явидом и Кербетом [81]. Их неучастие в последующих военных действиях Александра
Невского, осадившего Торопец, а затем преследовавшего бежавших литовцев,
указывает, что они были наместниками не Александра, а его отца, великого князя
Ярослава Всеволодовича [82]. Следовательно, переяславская
территория принадлежала не Александру, а входила в состав Владимирского
великого княжества [83].
Три приведенных свидетельства говорят о том, что Переяславль и территория бывшего Переяславского княжества удерживались Ярославом Всеволодовичем под своей рукой и при его жизни не передавались кому-либо из его сыновей.
Из четвертого свидетельства можно извлечь прямые данные об
уделе Александра Невского. В договорной грамоте тверского князя Михаила
Ярославича с Новгородом Великим, составленной между ноябрем 1296 г . и февралем 1297 г . [84],
содержится следующий пункт: «А кто будеть давныхъ людии въ Торъжьку и въ
ВолоцЪ, а позоровалъ ко ТфЪри при ОлександрЪ и при ЯрославЪ, тЪмъ тако и
сЪдЪти, а позоровати имъ ко мнЪ» [85]. Очевидно, в грамоте
упоминаются люди, «позоровавшие» к Твери, когда та стала центром
самостоятельного княжества. С этой точки зрения вполне понятно упоминание в
докончании отца Михаила Ярослава Ярославича, в свое время сидевшего на тверском
столе. Но ранее Ярослава в грамоте назван Александр, и в нем нельзя не видеть
старшего брата Ярослава Александра Невского. Становится очевидным, что он-то и
был первым тверским князем.
Поскольку в 1245
г . Тверью управлял наместник великого князя Ярослава
Всеволодовича, надо считать, что Тверское княжество образовалось после
названной даты. По-видимому, Тверь была получена Александром по завещанию отца,
реализованному в 1247 г .
великим князем Святославом Всеволодовичем. Александру недаром была
предназначена самая западная часть владимирской территории: она непосредственно
смыкалась с землями Великого Новгорода, где княжил Александр [86].
Что касается его брата Ярослава, до сих пор единодушно
принимаемого всеми исследователями за первого князя Твери, то самая ранняя
запись, где он назван тверским князем, относится только к 1255 г . [87]
Древнейшее же известие о его владениях рисует его князем совсем другого
княжества.
Выше уже цитировался летописный рассказ под 1252 г . о «бегании» великого
князя Андрея Ярославича перед монголо-татарами, которые чуть было не схватили
его у Переяславля. Великому князю удалось ускользнуть. Тогда монголо-татары
начали грабить окрестности Переяславля, «и княгыню Ярославлю яша и дЪти изъимаша
и воеводу Жидослава ту оубиша и княг(ын)ю оубиша и дЪти Ярославли в полонъ
послаша» [88]. Из этого текста А.Е.Пресняков заключал,
будто Переяславль принадлежал Андрею [89]. Но если в
Переяславле или в переяславской округе находились жена Ярослава, его дети, то
это вернейшее указание на то, что Переяславль был его резиденцией.
Получить Переяславль Ярослав мог в 1247 г . по завещанию отца
или позже, в 1248—1249 гг., по соглашению со своими братьями, великими князьями
Михаилом или Андреем. Но после утверждения во Владимире Александра Ярославича
Переяславль переходит в состав великого княжения, и в 1263 г . Невский завещает
Переяславское княжество своему старшему сыну Дмитрию. Следовательно, в какой-то
момент после 1252 г .
Ярослав был лишен переяславского стола [90]. По-видимому, между
Александром и Ярославом произошел насильственный обмен: Александр забрал себе
Переяславль, вновь включив его во владимирскую территорию, а Ярославу отдал
свое отчинное Тверское княжество. В дальнейшем Тверское княжество утвердилось
за Ярославом Ярославичем и его потомками, а Переяславское княжество — за
старшими потомками Александра Невского.
Под 1280
г . летопись сообщает, что скончался «князь Давыдъ Костянтиновичь,
внукъ Ярославль, Галичскыи и Дмитровьскыи» [91].
Прозвище князя свидетельствует о существовании Галицко-Дмитровского княжества,
составленного довольно искусственно из двух разделенных дальними расстояниями
центров: Дмитрова, прежде входившего в состав Переяславского княжества, и
Галича Мерского, бывшего частью владимирской великокняжеской территории. Вслед
за исследователями образование этого княжества можно отнести к 1247 г ., когда Святослав
Всеволодович раздавал «грады» своим племянникам. Видимо, тогда Константин
Ярославич и получил Дмитров с Галичем [92]. Во всяком случае
необычная география владений его сына косвенно свидетельствует о раннем их
образовании, поскольку именно в первые годы после Батыева нашествия из
разоренной Северо-Восточной Руси непросто было выкроить территориально
компактные уделы [93]. Упоминания под 1334 и 1335 гг.
князей Бориса Дмитровского и Федора Галицкого [94]
свидетельствуют о том, что между 1280 и 1334 гг. Галицко-Дмитровское княжество
распалось надвое соответственно двум своим центрам.
К послемонгольскому времени относится становление и Московского княжества.
На протяжении XII — первых десятилетий XIII в. Москва
входила в состав территории великого княжества Владимирского. Как показал
М.Н.Тихомиров, во второй половине XII—начале XIII в. наблюдается несомненный
экономический рост Москвы [95]. Последнее
обстоятельство объясняет действия четвертого сына Всеволода Большое Гнездо,
Владимира, который в 1213 г .
сделал попытку закрепиться в Москве, отдав ей предпочтение перед Юрьевом
Польским, выделенным ему по отцовскому ряду [96].
Тем не менее Москва не стала тогда столицей самостоятельного княжества.
Летопись подчеркивает, что Владимир захватил город «брата своего» Юрия
Владимирского [97], что Москва была «своим городом» Юрию
[98]. К тому же Владимир сидел в Москве всего несколько
месяцев [99]. В последующее время Москва по-прежнему в
составе великого княжества Владимирского [100].
Первым московским князем считается Михаил Ярославич Хоробрит, сын уже упоминавшегося великого князя Ярослава Всеволодовича [101]. Вполне возможно, что при нем Москва действительно стала центром самостоятельного княжества. Однако категорично настаивать на этом нельзя. Дело в том, что мнение исследователей о Михаиле Хоробрите как первом московском князе основывается на текстах Новгородской IV летописи и Тверского сборника, где Михаил назван Московским [102]. По сравнению с текстом Новгородской IV летописи текст Тверского сборника явно вторичен [103]. Следовательно, старшим является сообщение Новгородской IV летописи: «князи Суздальстии побита Литву у Зубцева. А Михаил Ярославичь Московьскии убиенъ бысть отъ Литвы на ПоротвЪ». В основном источнике Новгородской IV летописи — Новгородско-Софийском своде 30-х годов XV в. — этого известия, по-видимому, не было. Оно отсутствует в списках Софийской I летописи старшего извода, почти во всех списках Софийской I летописи младшего извода, а в Синодальном списке № 154 Михаил не назван Московским [104]. Не было сообщения о гибели Хоробрита и в одном из дополнительных источников Новгородской IV летописи — Софийском временнике, отразившемся в Новгородской I летописи младшего извода [105]. Оно могло попасть в Новгородскую IV летопись из ростовского владычного свода времен архиепископа Ефрема [106]. До настоящего времени этот ростовский свод не дошел. Насколько можно судить по сокращенному ростовскому своду конца XV в., известие о смерти Михаила имелось в ростовском летописании [107]. Но назывался ли в своде Ефрема Хоробрит московским князем, сказать трудно. В упомянутом ростовском своде конца XV в. такого определения нет. Нет его и в записи о гибели Михаила Лаврентьевской и Симеоновской летописей [108]. К тому же Новгородская IV летопись называет Михаила Московским после собственного сообщения о захвате им стола великого княжения Владимирского, т.е. когда Михаил был уже не московским, а владимирским князем [109]. В последней связи примечательно, что убитого на р.Протве Михаила похоронили не в Москве, а во Владимире [110]. Поэтому делать бесспорный вывод о вокняжении в Москве Михаила Хоробрита па основании сообщения Новгородской IV летописи нельзя. Не исключена возможность, что Михаила Ярославича назвали Московским позднейшие книжники.
Впрочем, если принять версию о Хоробрите как первом
московском князе, его княжение в Москве должно было быть очень недолгим. Москва
досталась ему, очевидно, по разделу 1247 г . Погиб Михаил зимой, в конце 1248 или
начале 1249 г .
[111] До этого он согнал своего дядю Святослава Всеволодовича
с великого княжения и сам сел на владимирский стол. Если верить сообщению
Новгородской IV летописи, Святослав занимал великокняжеский стол один год [112]. Отсюда вытекает, что Михаил Хоробрит мог княжить в
Москве не более года.
После Хоробрига князей в Москве источники не упоминают. По всей вероятности, город с тянувшей к нему территорией вошел в состав великого княжества Владимирского. Во всяком случае, Москвой распоряжался великий князь Александр Ярославич, выделивший Московское княжество в удел своему младшему сыну Даниилу.
Но двухлетний Даниил не стал в 1263 г . московским князем.
Об этом можно судить на основании одного известия Тверской летописи. Там
упоминается грамота, по сути дела представлявшая собой дипломатическую ноту,
посланная тверским князем Иваном Михайловичем московскому князю Василию
Дмитриевичу в 1408 г .
по поводу совместных действий против Литвы. В грамоте содержалась любопытная
ссылка на то, что Даниила Александровича, предка Василия Московского, воспитал
пращур Ивана Михайловича Ярослав Ярославич, тиуны которого семь лет сидели в
Москве [113]. Едва ли можно сомневаться в
достоверности этого сообщения, включенного в важный официальный документ.
Ярослав Ярославич был не только тверским князем. После смерти Александра
Невского он сел на великокняжеский стол во Владимире и занимал его семь лет
вплоть до своей смерти [114]. Именно эти семь лет и имела в виду
грамота Ивана Тверского. Из сообщения грамоты вытекает, что во время своего
великого княжения Ярослав удерживал Москву под своей властью, а управляли ею
великокняжеские наместники — тиуны. Следовательно, окончательное отделение
Московского княжества от Владимирского произошло не ранее 70-х годов XIII в. Во
всяком случае, Даниил Александрович как московский князь упоминается впервые в 1283 г . [115]
Летописное известие 1265 г . свидетельствует о существовании
Костромского княжества [116]. Кострома принадлежала Василию
Ярославичу, сыну великого князя Ярослава Всеволодовича. Вероятно, он получил ее
при раздаче княжений Святославом в 1247 г . Тогда Василию было неполных шесть лет [117], и возможно, что фактически Кострома стала центром
особого княжества несколько позже, примерно в середине 50-х годов XIII в. В
70-е годы XIII в. костромской князь играл уже активную политическую роль в
делах Северо-Восточной Руси [118]. В 1272 г . Василий Костромской
стал великим князем Владимирским [119], а затем после
вооруженной борьбы со своим племянником Дмитрием Александровичем утвердился в
Новгороде Великом [120]. Однако со смертью Василия
Ярославича в январе 1277 г .
Костромское княжество перестало существовать, и его территория была
воссоединена с территорией великого княжества Владимирского [121].
В 1293 г .
великий князь Дмитрий Александрович сделал попытку вновь выделить Костромское
княжество из состава владимирских земель, но это княжество во главе с его сыном
Иваном просуществовало самое большее несколько месяцев, после чего Кострома
снова стала частью великокняжеских владений [122].
На востоке Суздалыцины образовалось Городецкое княжество.
Первое известие о нем относится к 1282 г . [123] Но поскольку
городецким князем был третий сын Александра Невского, Андрей, следует полагать,
что Городец был выделен ему по завещанию отца. Поэтому становление Городецкого
княжества следует относить к периоду между 1263 и 1282 гг. [124]
Помимо Городца, это княжество включало в свой состав Нижний Новгород и,
вероятно, Унжу.
Среди владений потомков старшего сына Всеволода Большое Гнездо Константина в послемонгольский период также появилось новое государственное образование.
После гибели в 1238 г . ростовского князя Василька
Константиновича из его владений выделилось Белозерское княжество. Под 1251 г . Лаврентьевская
летопись сообщает, что «поЪха ГлЪбъ на БЪлоозеро в свою отчину» [125].
Речь идет здесь о младшем сыне Василька, родившемся в 1237 г . [126]
Вполне правдоподобно предположение, что Василько сам выделил Белоозеро из
состава Ростовского княжества пеленочнику Глебу. Возможно, не случайно Глеб
отправился на Белоозеро именно в 1251
г ., когда, по понятиям тех времен, он стал
совершеннолетним (ему исполнилось 13 лет) и мог вступить во владение завещанной
ему отчиной.
Старший брат Глеба Борис получил Ростов [127].
Но в 1277 г .
после смерти Бориса ростовским князем стал Глеб [128].
Затем Ростовским княжеством владели сыновья Бориса Дмитрий и Константин [129]. В конце XIII — начале XIV в. в состав Ростовского
княжества входили Ростов и Устюг [130]. Владельческая
судьба Белоозера довольно туманна. Сын Глеба Белозерского Михаил был похоронен
не в своем отчинном городе, а в Ростове [131]. Еще при его жизни
Белоозеро попало в руки старшего сына Бориса Ростовского Дмитрия, очевидно в
результате насильственного захвата в 1279 г . [132] По разделу 1286 г . с братом
Константином Дмитрий получил Углич и Белоозеро, а Константин — Ростов и Устюг [133]. Однако позднее Ростов и Устюг оказались в руках Дмитрия
[134]. Константин же распоряжался Угличем: в 1292 г . он посадил туда
своего сына Александра [135]. По всей вероятности, братья
поменялись владениями. В таком случае Белоозеро должно было отойти Константину
и сохраниться за ним и тогда, когда он после смерти Дмитрия в 1294 г . сел в Ростове,
наследовав земли брата. О пребывании в XIII в. на Белоозере внука белозерского
князя Глеба Васильковича Федора сведений нет. Возможно поэтому, что Белозерское
княжество возобновились только в XIV в., когда Федор Михайлович женился в Орде
и подкрепил свои отчинные права ордынской помощью [136].
На углицком столе, ставшем выморочным после смерти в 1283 г . младшего сына
первого углицкого князя Владимира Константиновича Романа [137],
в конце XIII — начале XIV в. сидел, по-видимому, сын ростовского князя
Константина Борисовича Александр [138].
Ярославским княжеством после пресечения мужской линии рода
Всеволода Константиновича завладел отпрыск смоленских князей Федор Ростиславич,
женившийся около 1260 г .
на внучке Всеволода Марии Васильевне [139]. Ярославль выпал из
общей отчины Константиновичей. Он сохранился за потомством Федора Смоленского.
Для послемонгольского периода XIII в. важно отметить одно
обстоятельство, влиявшее на формирование территорий различных княжеств
Северо-Восточной Руси. Великий князь Ярослав Всеволодович, его братья и
сыновья, а также их потомки не искали земель, некогда принадлежавших
Константину Всеволодовичу Ростовскому. Со своей стороны и Константиновичи не
претендовали на какие-либо владения Ярославичей и младших Всеволодовичей.
Прослеживается строгое разграничение территорий, являвшихся отчинами двух
крупных княжеских ветвей. Кажется, единственным исключением был захват в 1293 г . ярославским князем
Федором Ростиславичем Переяславля [140]. Впрочем, он занял
его с согласия ставшего великим князем Андрея Александровича Городецкого [141]. Переяславль князь Федор удерживал около года [142]. Затем город был возвращен отчичу — князю Дмитрию
Александровичу. Но возможно, что в результате захвата переяславской территории
в 1293г. за ярославскими князьями остались земли близ Соли Великой и Нерехты, о
чем свидетельствуют данные XV—XVII вв. [143]
Итак, в период с 1238 по 1300 г . в Северо-Восточной
Руси появились восемь новых княжеств: Стародубское, Суздальское, Тверское,
Галицко-Дмитровское, Костромское, Московское, Городецкое и Белозерское. Два из
них — Суздальское и Стародубское — существовали еще в домонгольский период,
правда довольно непродолжительное время [144]. Поэтому было бы
точнее говорить о возобновлении этих двух княжеств. Но остальные шесть впервые
стали таковыми в послемонгольское время.
Весьма показательна география новых государственных образований. В центральной части старой Ростово-Суздальской земли образовались всего три княжества: Стародубское, Суздальское и Дмитровское (часть Галицко-Дмитровского княжества). Из них совершенно новое только одно — Дмитровское. Остальные пять княжеств и Галицкая часть Галицко-Дмитровского княжества возникли на окраинах древней Суздальщины, охватывая широкой подковой с запада (Москва, Тверь), севера (Белоозеро, Кострома, Галич) и востока (Городец) ее территориальное ядро. (См. рис. 4).
Рис.4. Княжества Северо-Восточной Руси в 70-е годы XIII в.
Такое расположение новых княжеских центров на русском Северо-Востоке в послемонгольское время (до конца XIII в.) далеко не случайно. Как было показано выше, монголо-татарским нападениям во второй половине XIII в. подвергались преимущественно центральные области Северо-Восточной Руси. Естественным следствием предпринимаемых с юга ордынских походов было бегство русского населения в более безопасные от монголо-татарских вторжений места.
Уже нашествие Батыя вызвало определенное перемещение населения. Под угрозой иноземного завоевания значительная часть жителей городов и сел Суздальщины бежала на северо-запад, в Новгород Великий. Свидетельство тому — горькая и образная картина избиения людей, пытавшихся уйти от Батыя из Торжка «Серегерским путем» в Новгород. По словам новгородского летописца, монголо-татары «все люди сЪкуще, акы траву» [145]. Смерть от монголо-татарской сабли на «Серегерском пути» нашли, очевидно, не только жители близлежащих мест, но и беженцы из внутренних районов Владимиро-Суздальской Руси. Другая часть населения Суздальщины бежала на север, в район Белоозера. Там переждал Батыев погром ростовский епископ Кирилл [146]. Конечно, не он один спасался в Белоозере, вместе с ним туда ушли и другие жители Ростова.
В последующее время отлив населения из центральных областей
Владимиро-Суздальской Руси продолжался. Выше уже приводились сведения об уходе
населения Переяславля и его округи перед Дюденевой ратью. Археологическое
изучение сельских поселений по р. Клязьме и к северу от нее, т.е. в пределах
владимирской, суздальской, переяславской и юрьевской территорий, позволяет
прийти к выводу о запустении большинства из них не позднее XIII в. [147] В то же время данные археологии свидетельствуют о
притоке населения в районы Ярославского Поволжья, Москвы, Твери, р.Шексны [148]. Яркий рассказ о том, как при нашествии Дюденя осенью 1293 г . из разных мест
сбегались люди в Тверь, сохранила летопись: «бяше бо ся умножило людей и
прибЪглыхъ въ Тфери и из ыныхъ княженеи и волостеи» [149].
Показания письменных источников подтверждают, таким образом, факт ухода
населения из центра на запад, в Тверское княжество. Увеличивалось население и
восточных окраин. В 1274 г .
при поставлении во Владимирские епископы Серапиона среди трех главных городов
его епархии был назван Нижний Новгород [150]. В то же время не
были упомянуты такие крупные города, как Переяславль и Москва, также бывшие под
церковной юрисдикцией владимирского владыки. И если Нижний Новгород
рассматривался как один из основных городов епископии, то это, конечно,
косвенный показатель роста населения в данном районе. В 60—70-е годы XIII в.
заметно возросла в поволжской торговле роль Костромы. Так, в 1270 г . здесь были задержаны
купцы, возвращавшиеся с товарами в Новгород Великий [151].
Рост торгового значения Костромы в определенной степени был связан с
увеличением населения в Поволжье.
Приток населения в безопасные от монголо-татарскпх «нахожений»
не только западные, как считал М.К.Любавский, но и северные и восточные окраины
старой Ростово-Суздальской земли способствовал подъему этих окраин. Князья и
боярство находили здесь достаточное число плательщиков феодальных повинностей и
воинов для своих дружин. Итогом было образование новых, периферийных княжеств,
призванных сыграть свою историческую роль в судьбах русского Северо-Востока.
Великий князь Владимирский, обладавший традиционным политическим старшинством,
дипломатическими и военными прерогативами среди князей — потомков Всеволода
Большое Гнездо, был уже не в состоянии поддерживать свою власть, распоряжаясь
лишь территорией Владимирского великого княжества, сильно сократившейся к
последней трети XIII в. После смерти Александра Невского в 1263 г . борьбу за
великокняжеский стол повели и его занимали тверской князь Ярослав Ярославич,
костромской князь Василий Ярославич, переяславский князь Дмитрий Александрович,
его брат Андрей Городецкий [152]. С середины 90-х
годов XIII в. в схватку за стол великого княжения активно вмешивается
московский князь Даниил Александрович [153]. Чрезвычайно
показательно, что, кроме переяславского князя, все остальные претенденты и
носители высокого титула представляли княжества, возникшие на периферии
Суздальщины в послемонгольское время. Участие тверского, костромского,
Городецкого и московского князей в борьбе за владимирское наследие
свидетельствует о том, что во второй половине XIII в. уходит в безвозвратное прошлое
политическое значение древнейших городов Волго-Окского междуречья. Происходит
объективный процесс изменения территориальной основы консолидации
северо-восточных княжеств. Выгоды географического положения Твери, Костромы,
Городца и Москвы, явившиеся результатом демографических изменений в
Северо-Восточной Руси, вызванных монголо-татарским игом, несомненно,
благоприятствовали тому, что именно эти города в противовес всем остальным
смогли успешно претендовать на роль того центра, вокруг которого в будущем
смогла бы объединиться вся Северо-Восточная Русь.
1. ПСРЛ. 2 е изд. Л., 1926-1928, т.1, стб.464.
2.
Насонов А.Н. История русского летописания XI- начала XVIII
века. М., 1969, с.186, 192-193, 198 (о привлечении ростовского летописного
материала 80-х годов XIII в. для описания более ранних событий, в том числе
Батыева нашествия); Прохоров Г.М. Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской
летописи. - ТОДРЛ. Л., 1974, т.28, с.95-96 (автор предполагает, что описание
Батыева нашествия составлено в 1377
г . при переписывании свода 1305 г . мнихом Лаврентием;
предположение сомнительно).
3. ПСРЛ, т.1, стб.473.
4. Весьма показательно, что термин «Русь» в послемонгольское время (примерно с середины XIII в.) обозначает уже не киевский Юг, а Северо-Восток. - Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. - ЛЗАК. СПб., 1908, вып.20, с.328-329.
5. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.48-49; Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с.5, 8, 153; Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. М., 1948, с.525-526, 534, 537; Кучкин В.А. Роль Москвы в политическом развитии Северо-Восточной Руси конца XIII века. - В кн.: Новое о прошлом нашей страны. М., 1967, с.54; Он же. Формирование княжеств Северо-Восточной Руси в послемонгольский период (до конца XIII в.). - Вопр. географии. М., 1970, вып.83. с.96-97, 101, 109-112.
6. Ключевский В.О. Сочинения. М., 1956, т.1, с.337.
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.454. У В.О Ключевского это наблюдение С.М.Соловьева получило более образное, но научно менее точное выражение: «В Москву, как в центральный водоем, со всех краев Русской земли, угрожаемых внешними врагами, стекались народные силы благодаря ее географическому положению» (Ключевский В.О. Соч. М., 1957, т.2, с.10).
8. Любавский М.К. Возвышение Москвы. - В кн.: Москва в ее прошлом и настоящем. М. [1909], вып.1, с.67-72.
9. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.114.
10. ПСРЛ. 2-е изд. СПб., 1908, т.2, стб.780; НПЛ, с.75.
11. ПСРЛ, т.1, стб.463.
12. НПЛ, с.75; ПСРЛ, т.1, стб.463.
13. ПСРЛ, т.1, стб.463; НПЛ, с.75-76.
14. ПСРЛ, т.2, стб.781: «град емоу иэбившоу ВолодимЪрь». В Лаврентьевской все рассказы об избиениях в статье 6745 года являются вставками, они заимствованы из предыдущих статей этой летописи.
15. ПСРЛ, т.1,стб.473.
16. Там же.
17. ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.78.
18. Там же, с.82; ср.: НПЛ, с.327.
19. НПЛ, с.76.
20. Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950, с.346; ПСРЛ, т.18, с.53; ср.: НПЛ, с.327.
21. ПСРЛ, т.1, стб.464.
22. Там же.
23. ПСРЛ, т.1, стб.470.
24. НПЛ, с.76, 327; ПСРЛ, т.18, с.82.
25. ПСРЛ, т.1, стб.460-461: НПЛ, с.76.
26. ПСРЛ, т.18, с.82; ср.: НПЛ, с.327.
27. НПЛ, с.76.
28. ПСРЛ, т.1, стб.473.
29. Там же, т.18, с.78; т.1, стб.525 (ограбление первяславсквх сел), НПЛ, с.324.
30. ПСРЛ, т.18, с.82.
31. Насонов А.Н. История русского летописания..., с.194.
32. НПЛ, с.76.
33. ПСРЛ, т.1, стб.464.
34. Там же, т.18, с.78; т.1, стб.525.
35. Там же, т.1, стб.462.
36. Там же, т.18, с.78.
37. Там же, с.82.
38. НПЛ, с.76.
39. ПСРЛ, т.18, с.78.
40. Там же, с.83.
41. НПЛ, с.76.
42. ПСРЛ, т.18, с.82.
43. Там же, т.1, стб.464.
44. Каргалов В.В. Последствия монголо-татарского нашествия XIII в. для сельских местностей Северо-Восточной Руси. - Вопр. истории, 1965, № 3, с.56.
45. ПСРЛ, т.18, с.78.
46. Там же, с.82.
47. Там же, т.1, стб.464.
48.
В 1293 г .
возможность сопротивления тверичей заставила Дюденя и князя Андрея
Александровича воздержаться от похода на Тверь. - Там же, т.18, с.83.
49. В.В.Каргалов объясняет отмеченное В.В.Седовым запустение сельских поселений в центре Смоленского княжества в XIV-XV вв. влиянием ордынского ига (Каргалов В.В. Указ. соч., с.56). Однако запустение Смоленской земли логичнее связывать с военными походами литовских князей. Об этих походах см. в кн.: Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959, с.375-378, 381, 384-387, 392-397.
50. Под влиянием этих сдвигов, видимо, сформировались в послемонгольское время такие восточные уделы Смоленского княжества, как Вяземский и Можайский. - Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского Статута. М., 1892, с.33; Родословные книги. - Временник МОИДР. М., 1851, кн.10, с.54.
51.
«Ярославъ сынъ Всеволода Великаго сЪде на столЪ в
Володимери». - ПСРЛ, т.1, стб.467 (первая запись под 6746 г .).
52. Там же.
53. Там же, т.18, с.75, 78; Экземплярский А.В. Великие и удельные киязья Северной Руси в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.179.
54. ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.46, 64.
55. Экземплярский А.В. Указ. соч. СПб., 1889, т.1, с.23, примеч. 57; т.2, с.257.
56. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.54 и примеч.3.
57.
ПСРЛ, т.1, стб.460. Утверждая, что в 1242 г . Святослав
Всеволодович украшал юрьевский Георгиевский собор, А.В.Экземплярский ссылался
на Воскресенскую летопись. - Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1. с.23,
примеч.57; т.2, с.257, примеч.693 (везде фигурирует ПСРЛ, т.7, с.137-138). На
самом деле в Воскресенской летописи об украшении Георгиевского собора говорится
лишь под 1234 (6742) г. (ПСРЛ. СПб., 1856, т.7, с.138). Видимо,
А.В.Экземплярский спутал 6742
г . и 1242
г .
58. ПСРЛ, т.1, стб.471.
59. Там же, стб.469; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1, с.19.
60. ПСРЛ, т.1, стб.471.
61. ПСРЛ. 2-е изд. Пг., 1915, т.4, ч.1, вып.1, с.229.
62. Там же, т.1, стб.471.
63. Там же, стб.472.
64. Там же, стб.473.
65. Там же, стб.473,524; НПЛ, с.304.
66. ПСРЛ, т.1, стб.472, 469 (имя сына).
67.
А.В.Экземплярский утверждал, что в 1250 г . князь Святослав
«ходил в Орду хлопотать о возвращении великокняжеского стола» (Экземплярский
А.В. Указ. соч., т.1, с.23). Если так, то почему свою поездку Святослав
предпринял не в 1248 г .,
когда погиб его соперник Михаил, а только в 1250 г ., и не один, а с
сыном? Недоумения рассеиваются при предположении, что целью поездки Святослава
в Орду в 1250 г .
было закрепление за ним и его сыном Юрьевского княжества.
68. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.52; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.259.
69. Утверждение А.В. Экземплярского, будто Святослав Всеволодович, став великим князем, уступил Суздаль своему племяннику Андрею Ярославичу, ни на чем не основано. - Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.391.
70. А.Е.Пресняков потерю Святославом Суздаля связывал с потерей им великого княжения Владимирского. - Пресняков А.Е. Указ. соч., с.54.
71. ПСРЛ, т.18, с.72,77.
72.
Там же, т.1, стб.474. А.В.Экземплярский датирует
возвращение Андрея Ярославича 1256
г . (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1, с.27). Однако
такая датировка не находит опоры в источниках. В древнейших сводах Андрей после
своего бегства впервые упоминается под 1257 г .
73. ПСРЛ, т.1, стб.474.
74. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.4.
75. Там же.
76. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.54.
77.
Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1, с.31, примеч.82.
Характерно что А.Е.Пресняков, рассматривая вопрос о принадлежности Переяславля
Александру Невскому до 1252 г .,
вообще не сделал ни одной ссылки на источник (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.54).
78. НПЛ, с.78.
79.
«Приидоша пакы от Западпыя страны и возградиша град въ
отсчьствЪ АлександровЪ» (Бегунов Ю.К. Памятник русской литературы XIII века:
«Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965, с.169). Речь идет о возведенной
в 1240 г .
немцами крепости в Копорье (НПЛ, с.78). Как думает Ю.К.Бегунов, Житие
Александра Невского было написано в 1282-1283 гг. во Владимирском
Рождественском монастыре (Бегунов Ю.К. Указ. соч., с.61).
80. НПЛ, с.79.
81. Имя Ербет, - скорее всего, описка вместо Кербет. Ср.: НПЛ, с.304.
82.
Кербет был участником битвы на Чудском озере в 1242 г ., возглавляя вместе с
братом псковского посадника авангард соединенных новгородскопсковско-владимирских
войск (НПЛ, с.78). Сын Явида Давыд, как, видимо, и его отец, принадлежал к
видным великокняжеским боярам, отправляя в конце своей жизни, судя по всему,
должность костромского наместника великого князя Владимирского (ПСРЛ, т.18,
с.76, 86).
83. Данный факт, взятый сам по себе, еще не исключает возможности владения Александром собственно Переяславлем. Но даже если бы это было так, надо признать, что Александр владел весьма урезанным Переяславским княжеством по сравнению с тем, каким обладал его отец. И мысль А.В.Экземплярского - А.Е.Преснякова об особом значении Переяславского княжества оказывается сомнительной уже по одному тому, что в домонгольское и послемонгольское время Переяславское княжество принципиально различалось размерами своей территории.
84. Подробнее о датировке этой грамоты см.: Кучкин В.А. Роль Москвы..., с.60-62.
85. ГВН и П, № 4, с.14.
86. Сказанное заставляет внести коррективы в предложенную ранее автором этих строк дату образования Тверского княжества. - Кучкин В.А. Роль Москвы..., с.55.
87. ПСРЛ, т.1, стб.473.
88. Там же.
89. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.55 и примеч.4.
90.
Думается, именно с этим фактом следует связывать летописное
известие начала 1255 г .
о князе Ярославе, который, «оставя свою отчину», вместе с боярами уехал в
Ладогу (ПСРЛ, т.1, стб.473-474). Точка зрения А.Е.Преснякова, связывавшего этот
отъезд не с междукняжескими счетами, а с ордынскими отношениями, не может быть
обоснована какими-либо свидетельствами источников (Пресняков А.Е. Указ. соч.,
с.56).
91.
ПСРЛ, т.18, с.77 под 6788 г ., мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г.
Хронология русского летописания. М., 1963, с.97. Давыд умер в понедельник
второй недели по пасхе. Пасха в 1280
г . приходилась на 21 апреля. Следует также отметить, что
при первом упоминании на страницах летописи Давыд назван Галипким (ПСРЛ, т.18,
с.76).
92.
См., например: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2,
с.207-209. Константин Ярославич умер весной 1255 г . (ПСРЛ, т.1,
стб.474).
93. Данный факт лишний раз подчеркивает неправоту В.О.Ключевского, предлагавшего «забыть» о влиянии монголо-татарского ига на формирование княжеств при внуках, а отчасти и детях Всеволода Большое Гнездо.
94. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.47.
95. Тихомиров М.Н. Древняя Москва. М., 1947, с.18.
96. ПСРЛ, т.1, стб.434; Летописец Переяславля Суздальского. - Временник МОИДР. М., 1851, кн.9, с.110.
97. Летописец Переяславля Суздальского, с.110.
98. Там же, с.111.
99.
По сообщению Летописца Переяславля Суздальского, Владимир
«на зиму» оставил Юрьев, бежал на Волок, а затем в Москву (Там же, с.110).
Следовательно, в Москве он был в начале 1213 г . Об изгнании Владимира из Москвы
Лаврентьевская летопись сообщает перед известием о рождении у Юрия сына
Всеволода 23 октября 1213 г .
(ПСРЛ, т.1, стб.438). Таким образом, Владимир удерживал Москву самое большее с
начала года по октябрь 1213 г .
100. ПСРЛ, т.1, стб.460-461.
101. Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И. Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.4. стб.42, примеч.82; Станкевич Н. О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III. - Учен. зап. имп. Моск. ун-та, 1834, № 1, с.39; Беляев И.Д. Московская летопись. Город Москва с его уездом. - Москвитянин, 1844, № 1, с.302; Вешняков В. О причинах возвышения Московского княжества. СПб., 1851, с.14 (с оговорками); Снегирев И.М. Москва: Подробное историческое и археологическое описание города. М., 1865, т.1, с.IV; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.273; Забелин И.Е. История города Москвы. 2-е изд. М., 1905, ч.1, с.69; Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.20. 22; История Москвы. М., 1952, т.1, с.24.
102. ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.230; ПСРЛ. СПб., 1863, т.15, стб.395.
103. Здесь соединен текст Новгородской IV летописи с текстом свода, близкого к Ермолинской летописи.
104. ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1925, т.5, вып.1, с.236 и вар. вв.
105. Ср.: НПЛ, с.304.
106. Об источниках Новгородской IV летописи см.: Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938, с.367.
107. Насонов А.В. Летописный свод XV века (по двум спискам). - В кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, вып.2, с.294.
108. ПСРЛ, т.1, стб.471; т.18, с.69.
109. Там же, т.4, ч.1, вып.4, с.229 и примеч. д, где неверно указано отчество Хоробрита.
110. Там же, т.1, стб.471.
111. Там же.
112. Там же, т.4, ч.1, вып.1, с.229.
113. Там же, т.15, стб.474; ГИМ, Муз., № 288 б., л.183об.
114.
ПСРЛ, т.18, с.72, 74 (вокняжение во Владимире - под 6772 г ., смерть - под 6779 г .).
115. НПЛ, с.325; Кучкин В.А. Роль Москвы..., с.59.
116. ПСРЛ, т.18, с.72.
117.
Там же, т.1, стб.470 (о рождении Василия в 1241 г .).
118. НПЛ, с.88-90.
119. ПСРЛ, т.18, с.74.
120. НПЛ, с.322.
121. ПСРЛ, т.18, с.79 (действия в Костроме бояр великого князя).
122. Там же, т.1, стб.527; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.867.
123. НПЛ, с.325; ПСРЛ, т.18, с.86.
124.
Основываясь на методе исключения, можно высказать
предположение, что по разделу 1247
г . Городец достался пятому сыну Ярослава Всеволодовича, Даниилу,
умершему в 1256 г .
О дате смерти Даниила см.: ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.232.
125. Там же, т.1, стб.473.
126.
Глеб умер 13 декабря 1278 г . 41 года от роду (Там же, т.18, с.76).
Следовательно, он родился в 1237
г .
127.
Там же, т.1, стб.471, под 6756 г .
128. Там же, т.18, с.75,76.
129.
Там же, с.77; т.1, стб.527, под 6802 г .
(Московско-Академическая летопись); Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.33.
130.
ПСРЛ, т.1, стб.527, под 6803 г .
131.
Там же, под 6801
г .
132.
Устюжский летописный свод. М.; Л., 1950, с.49, под 6794 г .; ПСРЛ, т.18, с.77.
133. устюжский летописный свод, с.49.
134.
ПСРЛ, т.1, стб.526, под 6797, 6798 гг.; Устюжский
летописный свод, с.49, под 6798
г .
135.
ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.248, под 6801 г .; Насонов А.Н.
Летописный свод..., с.297, под 6800
г .
136. ПСРЛ, т.1, стб.528.
137. Там же, стб.526.
138.
Там же, т.4, ч.1, вып.1, с.248; т.1, стб.528, под 6810 г .
139.
Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.75. Впервые Федор
Ростиславич, скорее всего как князь ярославский, упоминается в летописи под 1276 г . - ПСРЛ, т.18, с.75.
140. ПСРЛ, т.18, с.83.
141. Вместе с Андреем ярославский князь воевал против владевшего Владимиром и Переяславлем Дмитрия (Там же). Союзнические отношения Федора с Андреем и определили переход Переяславля к Федору. Но это не был обмен Переяславля на Ярославль, как думал А.Е.Пресняков (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.86, примеч.3; точнее заключение исследователя на с.88).
142.
ПСРЛ, т.18, с.83, под 6802 г . (Федор Ростиславич
сжег Переяславль - указание, что это уже не его город).
143.
АСВР, т.1, № 306, 429; Исторические акты Ярославского
Спасского монастыря. М., 1896, т.1, № 31-32, с.39-40; ЦГАДА, ф.281, № 14794, л .1-46об.
144.
Суздальским князем с сентября 1217 по февраль 1218 г . был Юрий
Всеволодович (ПСРЛ. М.; Л., 1949, т.25, с.115-116); Стародубом в 1217-1228 гг.
владел его брат Владимир (Там же, т.1, стб.442, 450).
145. НПЛ, с.76.
146. ПСРЛ, т.1, стб.465.
147. Каргалов В.В. Указ. соч., с.57.
148. Там же.
149. ПСРЛ, т.18, с.82.
150. Там же, с.74.
151. ГВН и П, № 3.
152. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1, с.40-58.
153. Кучкин В.А. Роль Москвы..., с.59-64.
|
|
|
|
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ТЕРРИТОРИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ВЛАДИМИРСКОГО В XIV в.
(до слияния с Московским княжеством в
В первые годы XIV в. в Северо-Восточной Руси произошли события, оказавшие определенное влияние на состав территории ее традиционного политического центра - великого княжества Владимирского.
Как сообщает Лаврентьевская летопись, 25 февраля 1303 г . «преставися Борисъ
князь сынъ АндрЪевъ на КостромЪ» [1]. Кострома относилась к
территории владимирского стола, а Борис Андреевич был сыном великого князя
Андрея Александровича [2]. Князья обычно умирали в своих
владениях. Поэтому указанные в летописях места кончины князей означали, как
правило, места их княжений [3]. Что касается
Костромы, то она, по-видимому, была выделена Андреем Александровичем из его
великокняжеских земель и еще при жизни отдана сыну Борису [4].
Произошло это между 22 мая 1299
г . и 25 февраля 1303 г . [5] Смерть Бориса вернула
Кострому под непосредственную власть его отца, великого князя Андрея.
Тем же 1303
г . датируется известие, которое следует расценивать. как
самое раннее свидетельство формирования великокняжеской части на Вологде. Оно
помещено в рукописи конца XV в. [6] В записи сообщается,
что «В лЪто 6711. Създана бысть на ВологдЪ церкви въ имя пресвятыа богородица и
священна бысть благовЪрнымъ епископомъ Новогородскым Феоктистом при благоверном
кпязЪ АндрЪи и сынЪ его МихаилЪ. И священа бысть въ 15 день августа на память
Успениа» [7]. Опубликовавший запись несколько лет тому
назад И.М.Кудрявцев отметил, что в ней перепутана дата: вместо 6711 (1203) надо
читать 6811 (1303) г., поскольку Феоктист был новгородским архиепископом в
1300—1308 гг. [8] Что касается упомянутых в приведенном
известии князей, то о них И.М.Кудрявцев писал следующее: «Здесь имеются в виду,
надо полагать, вел. кн.Новгородский Андрей Александрович (умер в 6812 г .), после которого
княжил Михаил Ярославич. Составитель, следовательно, путает и дату, и отношения
князей» [9].
С первой высказанной исследователем мыслью следует согласиться. Дата записи действительно неверна, и ошибка составляет сто лет. Очевидно, писец допустил описку в числе сотен, когда проставлял год освящения вологодской церкви. Сходные ошибки встречаются в рукописях. Так, в одном из псковских паримеиников, написанном во времена святительства новгородского архиепископа Давыда и княжения во Владимире князя Михаила Ярославича Тверского, т.е. в начале XIV в., вместо даты 6821 (1313) г., была поставлена дата 6921 (1413) г. [10] В последнем случае в дате по ошибке произошло увеличение на единицу числа сотен.
Что касается мнения И.М.Кудрявцева относительно названных в
записи князей, то тут следует внести ряд уточнений. Современником новгородского
владыки Феоктиста был единственный русский князь с именем Андрей — именно
Андрей Александрович, как это и указал И.М.Кудрявцев. Только князь Андрей был
не великим князем Новгородским, а занимавшим в начале XIV в. новгородский стол
великим князем Владимирским. Отождествление же упомянутого в известии князя
Михаила с тверским князем Михаилом Ярославичем не имеет под собой серьезных
оснований, оно зиждется только на сходстве имен. В самом деле, в приведенной
цитате Михаил прямо назван сыном Андрея, и этот факт никак нельзя игнорировать.
Он вполне согласуется с теми данными о князе Михаиле Андреевиче, которые
приведены в статье 1305 г .
Софийской I и Новгородской IV летописей [11]. Таким образом,
запись содержит лишь единственную ошибку — в дате, в остальном же она вполне
достоверна.
Известие об освящении богородичной церкви в Вологде при
великом князе Владимирском Андрее и его сыне Михаиле примечательно. Вологда
считалась новгородским владением [12]. И если вологодское
событие связывалось с именем владимирского князя, то это явный признак
существования его власти в данном районе. Сказанное подкрепляется несколько
более поздним свидетельством, впрочем датируемым тем же первым десятилетием XIV
в., относительно великокняжеского тиуна в Вологде [13].
В последнем случае речь прямо идет о сформировавшихся там великокняжеских
владениях [14]. С этой точки зрения запись 1303 г . надо расценивать как
косвенный показатель образования этих владений в годы княжения великого князя
Андрея Александровича.
Описанному событию 1303 г ., проливающему свет на процесс
расширения территории великого княжества Владимирского в начале XIV в.,
предшествовало еще одно, последствия которого сказались несколько лет спустя.
15 мая 1302 г .
умер переяславский князь Иван Дмитриевич [15]. По
свидетельству летописи, Иван Переяславский «бЪаше чадъ не имЪя» [16].
Не было у него и близких родственников [17]. Согласно нормам,
сложившимся в XIII в., выморочное княжество должно было быть присоединено к
великому княжеству Владимирскому [18]. Так было, например,
с княжествами Стародубским после 1228
г . и Костромским после 1277 г . И в данном случае
великий князь Владимирский Андрей Александрович поступил по традиции: в Переяславль
были присланы великокняжеские наместники [19]. Сам
Андрей осенью 1302 г .
отправился в Орду [20], скорее всего, для получения ханского
ярлыка на Переяславское княжество.
Но не дожидаясь возвращения великого князя, «на зиму», т.е.
примерно в декабре [21], того же года Переяславль захватил
московский князь Даниил Александрович [22]. Позднее московское
летописание сохранило известие, согласно которому Иван Переяславский
«благослови въ свое мЪсто Данила Московскаго въ Переяславли княжити, того бо
любляше паче инЪхъ» [23]. Но в более раннем тверском
великокняжеском летописании такого сообщения нет [24].
Как будет показано ниже, Переяславль в 1305 г . явился объектом спора между московским
и тверским князьями. Поэтому и в летописании Твери, и в летописании Москвы
могли быть сделаны тенденциозные пропуски текста или, напротив, вставки столь
же тенденциозного характера, которые должны были умалить или, наоборот,
подчеркнуть права московских князей на Переяславское княжество. Из-за
отсутствия какого-либо третьего, независимого от тверского или московского
летописания источника однозначно решить данный вопрос не представляется
возможным. Правда, в исторической литературе считается, что запись о
«благословении» переяславским князем Даниила Александровича отразила реальный
исторический факт, но обоснования данного мнения не приводится [25].
Впрочем, как бы там ни было, бесспорным остается то, что в конце 1302 г . Переяславль перешел
в руки московского князя, а расширившаяся было территория великого княжества
Владимирского снова вошла в те свои границы, какие существовали до смерти Ивана
Переяславского.
Однако вопрос о Переяславле не мог быть окончательно решен
без санкции хана. В 1303 г .
«на осень» из Орды на Русь вернулся великий князь Андрей Александрович [26]. Как сообщает летопись, он вернулся «съ послы и съ пожалованиемъ
царевымъ» [27]. Поскольку поездка князя Андрея к хану,
последовавшая за смертью Ивана Дмитриевича, была явно связана с вопросом об
отчине переяславского князя [28], летописное известие
о «пожаловании» следует расценивать как предоставление Ордой владимирскому
князю каких-то прав на переяславскую территорию. Но сразу эти права реализованы
не были.
По возвращении владимирского великого князя «съЪхашася на
съЪздъ въ Переяславль вси князи и митрополитъ Максимъ, князь Михаиле Ярославичь
Тферскыи, князь Юрьи Даниловичь Московский съ братьею своею; и ту чли грамоты,
царевы ярлыки, и князь Юрьи Даниловичь приатъ любовь и взялъ ceбЪ Переяславль,
и разъЪхашася раздно» [29]. Результат этого единственного в
своем роде политического форума как будто бы ясен: переяславскую территорию
сумел удержать за собой старший сын скончавшегося 5 марта 1303 г . Даниила
Александровича Московского [30] Юрий. Такой вывод делается
во всех крупных исследованиях, посвященных русской истории начала XIV в. [31]
Между тем итог Переяславского съезда 1303 г . нуждается в более
подробном комментарии, чем существующие. В самом деле, если великий князь
Владимирский Андрей Александрович вернулся из Орды с каким-то пожалованием [32], относившимся, скорее всего, к Переяславлю, то становится
непонятным, почему это пожалование не было закреплено Переяславским съездом?
Ведь если верить дошедшей летописной версии, съезд закончился политическим
триумфом московского князя и явным непризнанием прав на Переяславль великого
князя Владимирского, наместники которого были оттуда изгнаны. Принимая, однако,
во внимание, что данная версия сохранилась в московской великокняжеской
летописной традиции [33], отразившей притязания на Переяславль
московских князей, приходится сомневаться в объективности ее оценки результата
Переяславского съезда. Некоторые штрихи летописного рассказа, например о том,
что съезд был очень представительным, что его решение основывалось на грамотах
и ярлыках («чли грамоты, царевы ярлыки», т.е. грамоты, скорее всего, русские,
возможно духовные грамоты князей, а также ханские ярлыки, вероятно, на
различные княжения), заставляют думать, что дело кончилось компромиссом.
Переяславская территория отошла под управление князя московского дома, но его
права в отношении этой территории были ограничены. Как можно догадываться по
летописным описаниям более поздних событий 1305 г ., эти права носили
временный характер: или Юрий получил Переяславль только в личное пожизненное
владение, или Переяславль должен был отойти преемнику князя Андрея на
владимирском столе. Последнее представляется более вероятным.
Таким образом, к концу правления великого князя Владимирского Андрея Александровича под его властью, помимо его отчинного Городца, находились собственно Владимир с относившимися к нему волостями, значительная часть Поволжья — от Костромы почти до устья р.Унжи,— а также часть вологодских волостей. Как князю, занимавшему новгородский стол, Андрею принадлежали великокняжеские половины в Торжке и Волоке Ламском. В целом великокняжеская территория в начале XIV в. несколько увеличилась по сравнению со временем княжения во Владимире Дмитрия Переяславского.
Андрей Александрович умер спустя несколько месяцев после
съезда в Переяславле. Он скончался 27 июля 1304 г ., но был похоронен не
в первопрестольном Владимире, а в своем отчинном центре — Городце на Волге [34].
Стол великого княжения Владимирского Андрей Александрович
завещал тверскому князю Михаилу Ярославичу [35].
Контроль над великокняжеской территорией Михаил Тверской попытался установить
сразу же после смерти великого князя Андрея. Такую же попытку предпринял и
московский князь Юрий Данилович [36]. Спор соперников был
решен в Орде: ярлык на Владимирское княжение получил Михаил Ярославич Тверской [37]. Осенью 1305
г . Михаил вернулся на Русь [38]
и во Владимире состоялась церемония его посажения на великокняжеский стоп [39]. А в конце того же 1305 г . была окончательно решена судьба
Переяславля.
Как уже отмечалось, по решению Переяславского съезда 1303г.
Переяславль, захваченный в 1302
г . московским князем Даниилом Александровичем, остался в
руках его старшего сына Юрия. Когда после смерти великого князя Андрея
Александровича Михаил Тверской и Юрий Московский отправились в Орду, то в 1305 г . в их отсутствие
«князь же Иванъ Даниловичь съ Москвы приЪхалъ въ Переяславль и сЪлъ въ немъ» [40]. Тверское боярство, поддерживавшее своего князя, решило
воспрепятствовать закреплению в Переяславле представителя московского
княжеского дома. Во главе с боярином Акинфом тверичи выступили против Ивана
Калиты. Но тот, собрав переяславцев и дождавшиь московскои помощи, сумел
наголову разбить тверское войско под Переяславлем, причем в бою пали сам Акинф
и его зять Давыд. Таким образом, Переяславль остался за Иваном Даниловичем [41].
В исторической литературе существуют различные оценки летописных свидетельств о пребывании в 1302, 1303 и 1305 гг. в Переяславле московских князей. Так, Н.М.Карамзин, останавливаясь на захвате Даниилом Переяславля, приходил к выводу, что «сие важное приобретение еще более утверждало независимость московского владетеля» [42]. Каков был характер этого приобретения, Н.М.Карамзин, к сожалению, здесь не разъяснил. Но в другом месте своего труда он писал вполне определенно, что «Переяславль Залесский считался городом великокняжеским: по тому взял его Димитрий Константинович Суздальский, сделавшись в 1360 году великим князем» [43]. Следовательно, Н.М.Карамзин не расценивал события 1302—1305 гг. как акт присоединения переяславской территории к Московскому княжеству и, отмечая «приобретение» Переяславля московским князем, видимо, склонялся к мысли о том, что Даниил владел Переяславлем на правах переяславского князя [44].
Иначе интерпретировал этот факт С.М.Соловьев. Он полагал,
что после того, как Иван Дмитриевич завещал Переяславль Даниилу Александровичу,
«область княжества Московского увеличивалась целою областью другого княжества» [45], т.е. Переяславль попросту рыл присоединен к Москве.
Однако в примечании к процитированному заключению С.М.Соловьев вынужден был
сделать красноречивое признание. «Странно, впрочем, — писал он, — что после
Переяславль считался не в числе городов московских, но владимирских» [46], При этом исследователь сослался на духовные грамоты
московских князей и Никоновскую летопись [47].
Действительно, завещания московских князей вплоть до духовной 1389 г . Дмитрия Донского не
содержат упоминаний ни Переяславля, ни переяславских волостей [48].
Что касается Никоновской летописи, то С.М.Соловьев имел в виду ее статью под
1362 (6870) г., в которой упоминался Переяславль. В статье рассказывается о
том, как на Переяславль, занятый владимирским великим князем Дмитрием
Константиновичем Суздальским, организовал нападение получивший ярлык на великое
княжение московский князь Дмитрий Иванович и захватил его [49].
Очевидно, из описания этих событий С.М.Соловьев и сделал вывод о принадлежности
Переяславля не Московскому княжеству, а великому княжеству Владимирскому.
В.О.Ключевский в весьма осторожной и завуалированной форме повторил колебания С.М.Соловьева [50].
Важные разъяснения относительно судеб Переяславля в начале
XIV в. сделал А.Е.Пресняков. В отличие от своих предшественников он четко писал
о том, что «переход Переяславля во власть московского князя отнюдь не
"примысел" московский, а приобретение им стола переяславского
княжения» [51]. С заключением А.Е.Преснякова нельзя не
согласиться. Действительно, анализ летописных свидетельств 1302, 1303 и 1305
гг. не дает оснований предполагать присоединение переяславской территории к
Московскому княжеству. Зато исходя из них, можно сделать вывод о княжении в
Переяславле Даниила Московского и его сыновей [52].
Вместе с тем А.Е.Пресняков, правильно указав на существование в начале XIV в.
особого Переяславского княжества с князьями из московского княжеского дома, не
рассмотрел его последующей истории. В частности, он не объяснил того, как и
почему Переяславль перешел в руки получившего в 1360 г . ярлык на
Владимирское великое княжение Дмитрия Константиновича Суздальского [53], как произошло слияние при Дмитрии Донском переяславской
территории с московской.
На эти вопросы попытался ответить М.К.Любавский. Соглашаясь
с А.Е.Пресняковым в том, что Переяславское княжество под рукой московских
князей сохраняло свою суверенность, М.К.Любавский полагал, что после того, как
великими князьями Владимирскими стали Юрий Данилович Московский, его брат Иван
Калита, а затем дети Калиты Симеон и Иван, «Переяславское княжество уже некому
было оспаривать у московских князей и оно фактически приросло к Москве» [54]. Такое заключение неточно по существу и неопределенно по
своему конечному выводу. Во-первых, Переяславль оспаривался у московских князей
суздальским князем Дмитрием Константиновичем в самом конце 50-х — начале 60-х
годов XIV в.; во-вторых, совершенно загадочным остается процесс «фактического
приращения» Переяславля к Москве. Правда, М.К.Любавский пытался проиллюстрировать
этот процесс ссылками на покупки сел московскими князьями на переяславской
территории, устройство там ими новых сел и слобод [55].
Однако подобные покупки и заведения новых сел и слобод московскими и другими
князьями имели место на разных территориях Северо-Восточной Руси, и такие
случаи сам же М.К.Любавский не расценивал как «фактическое приращение» целых
районов к соответствующим княжествам. Противореча самому себе, М.К.Любавский в
другом месте своей работы писал уже о том, что Переяславль наряду с Можайском,
Коломной и Лопасней целиком и полностью вошел в состав Московского княжества [56], а еще через несколько страниц — причислял Переяславль к
территории великого княжества Владимирского [57].
Таким образом, в исследовании М.К.Любавского характеристика судеб Переяславля в
XIV в. эклектически смешала выводы А.Е.Преснякова (признание особого
Переяславского княжества после 1302
г .) и противоречивые наблюдения С.М.Соловьева
(Переяславль — часть московской территории и в то же время — часть владимирской
великокняжеской). В целом же можно сказать, что и после разысканий
М.К.Любавского определенности в данной проблеме не наступило.
Взаимоисключающие суждения ученых XIX — начала XX в. о
статусе переяславской территории после 1302 г . вызывают естественное желание добиться
четкости в указанном вопросе. К сожалению, в современной литературе эта
четкость достигается не тем путем, каким она должна быть получена. В работах
многих советских исследователей распространение получил основной тезис
С.М.Соловьева, согласно которому в 1302 г . произошло присоединение Переяславля к
Московскому княжеству, в дальнейшем уже не нарушавшееся [58].
Однако такая интерпретация летописных свидетельств 1302—1305 гг. не принимает
во внимание более поздних показаний источников, о которых говорилось выше.
Правда, в последнее время Ю.Г.Алексеев, посвятивший специальную работу истории
Переяславского уезда в XV—XVI вв., несколько отошел от указанной точки зрения,
но и его замечания о том, что, с одной стороны, Переяславское княжество вошло в
начале XIV в. «в состав земель московского княжеского дома», а с другой —
«юридически Переяславль рассматривался как часть великого княжения, и обладание
им формально было связано с великокняжеским столом» [59],
не вносят желанной ясности в проблему, поскольку в начале XIV в. московские
князья великокняжеского стола не занимали, Переяславль же был тогда в их руках.
Становится очевидным, что для решения всех спорных вопросов необходимо
пересмотреть уже известный материал источников и попытаться привлечь новые
данные.
Под 1362
г . летописи (древнейший из сохранившихся текстов — в
Рогожском летописце) сообщают о том, что между князьями Дмитрием Ивановичем
Московским и сидевшим на великокняжеском столе во Владимире Дмитрием
Константиновичем Суздальским началась борьба за великое княжение. Оба князя
перенесли решение спора в Орду. Оттуда от хана Амурата был привезен ярлык, по
которому отдавалось «княжение великое по отчинЪ и по дЪдинЪ князю великому
Дмитрею Ивановичю Московьскому» [60]. Далее Рогожский
летописец сообщал, что «тое же зимы князь великий Дмитреи Иванович(ь) съ своею
братиею съ княземъ с Ываномъ Ивановичемъ и съ княземъ Володимеромъ Андреевичемъ
и со всЪми боляры и собравъ воя многы своея отчины и иде ратию къ Переяславлю»,
а князь Дмитрий Суздальский, убоявшись «нахожениа его», «сбЪже съ Переяславля
въ Володимерь» [61]. Из приведенных летописных
свидетельств становятся очевидными два факта. Во-первых, в 1362 г . Переяславль не был
отчиной Дмитрия Ивановича Московского (он собирал воинов со «своея отчины»,
чтобы двинуться на Переяславль); во-вторых, Переяславль входил в состав
территории великого княжества Владимирского (московский князь выступил в поход
на Переяславль только тогда, когда получил ханский ярлык жа «княжение
великое»). Отсюда следует, что между 1305 и 1362 гг. (крайние даты) московские
князья лишились Переяславля и он был присоединен к великому княжеству
Владимирскому.
Названные хронологические рамки можно сузить. Описывая
возвращение в 1317 г .
из Орды московского князя Юрия Даниловича с ярлыком хана Узбека на Владимирское
великое княжение и уступку этого княжения Юрию Михаилом Ярославичем Тверским,
тверской летописный памятник сообщал о том, что новый великий князь, пробыв
долгое время в Костроме, двинулся «съ Костромы къ Ростову, отъ Ростова къ
Переяславлю и много зла творя хр(и)стианомъ. А ис Переяславля въ Дмитровъ...» [62]. Как ни интерпретировать текст о насилиях великого князя
Юрия (совершались ли они в Костроме, Ростове и Переяславле, в двух ли последних
городах, или в одном Переяславле), бесспорным будет заключение, что жители
Переяславля и, видимо, его волостей испытали «много зла» от войск Юрия
Даниловича. Такого, естественно, не произошло бы, будь Переяславль частью
территории Московского княжества или особым княжеством под управлением одного
из князей московского дома. Очевидно, что Переяславль входил в состав
владимирской великокняжеской территории, которой управлял предшественник Юрия
на владимирском столе и его соперник Михаил Ярославич Тверской. Таким образом,
летописное описание событий 1317
г ., на которое до сих пор исследователи не обращали
должного внимания, позволяет утверждать, что к концу второго десятилетия XIV в.
Переяславль был уже великокняжеской территорией. Произошло это между 1305 и
1317 гг., т.е. в великое княжение Михаила Ярославича.
Переход Переяславля из рук московских Даниловичей под
великокняжескую власть Михаила Тверского не мог состояться в результате
каких-то переговоров и соглашений. Даниловичи не уступили Переяславля ни
великому князю Андрею Александровичу в 1303 г ., ни тверской рати боярина Акинфа в 1305 г . Присоединение
Переяславля к великокняжеской территории могло осуществиться только в
результате военного конфликта.
На протяжении 1305—1317 гг. тверские и московские князья не
раз вступали между собой в вооруженную борьбу. Летописи отмечают резкие
столкновения между Тверью и Москвой в 1305, 1307, 1311, 1314 и 1316 гг. [63] В 1314 и 1316 гг. борьба шла за Новгород Великий, и
вопрос о Переяславле тогда не стоял. В 1311 г . дело ограничилось сбором полков, но
открытой войны не последовало, из чего можно заключить, что и в 1311 г , каких-либо акций в
отношении Переяславля не предпринималось. Остаются две даты: 1305 и 1307 гг.
В эти годы Михаил Тверской, ставший великим князем
Владимирским, предпринял два похода на Москву, но чем они были вызваны и чем
закончились, летопись не сообщает, если не считать стереотипной фразы под 1307 г . о том, что Михаил
«не успЪвше ничто же, възвратишася» [64]. В ученой литературе
походы князя Михаила на Москву в 1305 и 1307 гг. хотя и отмечались, но долгое
время никак не комментировались [65]. Лишь А.Е.Пресняков
указал на то, что результатом похода 1305 г . явилось признание московскими князьями
Михаила великим князем, а нападение 1307 г . стояло в связи с новгородскими делами [66]. Свою первую мысль А.Е.Пресняков ничем подкрепить не
смог. Что касается второго утверждения исследователя, то оно основано на широко
известной записи в псковском Апостоле 1307 г ., содержащей цитату из «Слова о Полку
Игореве»: «Сего же лЪта бысть бои на Руськои земли, Михаилъ съ Юрьемъ о
княженье Новгородьское. При сихъ князехъ сЪяшется и ростяше усобицами, гыняше
жизнь наша въ кнзяЪхъ которы, и вЪци скоротишася человЪкомъ» [67].
Однако А.Е.Пресняков не остановил своего внимания на вопросе, соответствует ли
приведенная запись летописному известию о походе Михаила на Москву в 1307 г . Сделать это было
необходимо хотя бы потому, что в свое время Н.М.Карамзин связывал бой между
Михаилом и Юрием, упоминаемый в Апостоле 1307 г ., с событиями не 1307 г ., а 1317 г . [68]
Отсюда становится очевидной необходимость в подробной аргументации даты записи
псковского Апостола.
Запись эта помещена на последнем листе рукописи сразу же за
записью о написании Апостола 21 августа 1307 г . и передаче его в псковский
Пантелеймонов монастырь. Она сделана теми же чернилами, что и первая запись, но
более мелким почерком, полууставом начала XIV в. Сопоставление почерков обеих записей
позволяет утверждать, что эти почерки, несмотря на свой различный размер,
принадлежат одному и тому же лицу. В самом деле, написание таких характерных
букв, как юс малый, з («земля»), омега, отчасти к и ж, одинаково и для более
крупного, и более мелкого почерков [69]. Названные признаки
позволяют отождествить оба почерка и приписать их писцу Домиду, сделавшему
упоминание о столкновении Михаила Тверского и Юрия Московского [70].
Сказанное еще не означает, что запись о бое Михаила с Юрием относится именно к 1307 г . Ведь Домид мог
внести запись об этом событии спустя продолжительное время после написания
Апостола. Необходимы данные иного рода, которые позволили бы датировать запись
не временем жизни Домида, а более точно. И такие данные находятся.
Свое известие о сражении между русскими князьями Домид
начинает словами «сего же лЪта». Поскольку ему принадлежит и предшествующая
запись с точной датой 21 августа 1307
г ., то есть веские основания относить его собственное
указание на «сее лЪто» к тому же 1307
г . Показательно и другое. Согласно летописи, второй
поход Михаила Тверского на Москву в 1307 г . завершился боем под стенами города «на
память святого апостола Тита» [71]. В православной
церкви память апостола Тита отмечалась 25 августа [72].
Следовательно, сражение Михаила с Юрием произошло 25 августа 1307 г . [73]
Дата боя оказывается чрезвычайно близкой дате окончания псковского Апостола —
21 августа 1307 г .
Такая близость не может быть случайной. Становится очевидным, что и ссылка
Домида на «сее лЪто», и промежуток всего лишь в несколько дней между окончанием
им работы над Апостолом и сражением Михаила с Юрием под стенами Москвы
указывают на то, что, делая приписку к Апостолу с цитатой из «Слова о Полку
Игореве», Домид имел в виду события именно 1307 г . [74]
Но благодаря приписке Домида вскрывается причина очередной распри тверского и
московского князей. Этой причиной, кстати говоря скрытой летописцами, явилось
соперничество из-за Новгорода. Михаил Тверской, который, кроме собственных,
распоряжался и силами великого княжества Владимирского, сумел одержать верх.
Летом 1308 г .
он был торжественно посажен на новгородский стол [75].
Таким образом, в 1307 г . борьба между Тверью и Москвой шла за
обладание Новгородом Великим. Поскольку из двух возможных дат (1305 г . и 1307 г .) перехода
Переяславля из рук московских князей под власть великого князя Владимирского
Михаила Тверского последняя дата отпадает, остается единственная
хронологическая грань, определяющая время такого перехода: конец 1305 г . Намек на связь
похода 1305 г .
Михаила Ярославича против московских Даниловичей с вопросом о Переяславле
содержится в древнейшем летописном тексте. В Симеоновской летописи известие об
этом походе помещено сразу же за рассказом о неудачном нападении на Переяславль
тверской рати боярина Акинфа. Указав, что «дЪти же Акинфовы Иванъ да Федоръ
одва убЪжали въ Тферь», летописец продолжал: «И тое же осени князь Михаиле
Яросдавичь Тферскыи вышелъ изъ Орды на княжение великое и того лЪта ходилъ
ратью къ МосквЪ на князя на Юрья и на его братью» [76].
Соединение фраз о бегстве в Тверь сыновей Акинфа и о походе против Даниловичей
великого князя Михаила союзом «и» указывает на смысловую связь между ними.
Очевидно, летописец рассматривал «рать» Михаила Ярославича на Москву как прямое
следствие разгрома под Переяславлем тверского войска Акинфа и как продолжение
обнаружившегося в начале XIV в. стремления тверичей отторгнуть Переяславль от
князей московского дома. Но насколько удались Михаилу Тверскому сам поход и
достижение целей, им преследуемых, промосковски настроенный летописец (или позднейший
редактор) не сообщил, не желая, видимо, заострять внимание своих читателей на
неудачах потомков Даниила Московского. Однако факт потери ими Переяславля в
конце 1305 г .
хотя и косвенным путем, но устанавливается. Именно в этом, а не в признании
Юрием Московским и его братьями Михаила Тверского великим князем, как довольно
абстрактно думал А.Е.Пресняков, и заключался итог войны 1305 г . Твери с Москвой. В
результате Переяславль слился с великокняжеской территорией и уже вместе с нею
при Дмитрии Донском стал рассматриваться как отчинное владение московского
великого князя.
Присоединением Переяславля процесс территориального роста
великого княжества Владимирского в первой четверти XIV в. не закончился. В 1320 г ., когда умер
занимавший нижегородский стол Борис Данилович (из рода московских князей) [77], Нижний Новгород вместе с Городцом и Унжей вновь, как это
было до 1263 г .,
составили единое целое с землями Владимирского княжества. Так можно думать на
основании следующих фактов. Известные в настоящее время источники не упоминают
особых нижегородских или городецких князей после Бориса Даниловича. Сам князь
Борис умер бездетным [78]. Очевидно, его княжество стало
выморочным. Как таковое, оно должно было быть присоединено к великому княжеству
Владимирскому. Последнее представляется весьма вероятным еще и потому, что в то
время великокняжеский стол во Владимире занимал старший брат Бориса Юрий, и
Нижний не уходил из рук московской княжеской династии. Наконец, согласно
припоминанию, зафиксированному тверским летописцем конца XIV в., в период
великого княжения Александра Михайловича Тверского, т.е. в 1326—1327 гг.,
Нижний Новгород входил в состав великокняжеских владений [79].
Все эти данные и позволяют утверждать, что с 1320г. земли нижегородского
Поволжья оказались под рукой великих княаей Владимирских.
Увеличение собственно великокняжеской территории в
определенной степени способствовало экономическому и политическому усилению
князей, занимавших стол во Владимире. Когда антиордынское восстание 1327 г . в Твери и других
русских городах показало, что такое усиление великокняжеской власти на Руси
чревато опасными последствиями для господства монголо-татар, хан Узбек разделил
территорию Владимирского княжества. Согласно записи, сделанной, по-видимому,
при митрополичьем дворе, после подавления тверского восстания Узбек отдал
Владимир и Поволжье (т.е., очевидно, бывшее Нижегородское (Городецкое)
княжество) суздальскому князю Александру Васильевичу, а Кострому и стол
Новгорода Великого получил московский князь Иван Калита [80].
Тот же источник сообщает, что такое деление Владимирской земли просуществовало
два с половиной года. После смерти Александра Суздальского «поиде въ Ворду
князь великии Иванъ Даниловичь, и царь его пожаловалъ и далъ ему княжение
великое надо всею Русьскою землею» [81]. Когда именно
произошли события, о которых говорит запись?
Раздел территории великого княжества Владимирского
последовал после усмирения Ордой восстаний в Твери и других городах.
Карательная экспедиция монголо-татар прибыла на Русь «на зиму» 1327 г . [82]
Поэтому указанный раздел следует датировать 1328 г ., скорее всего его
первой половиной [83]. Деление Владимирского княжества
между Иваном Московским и Александром Суздальским сохранялось, согласно записи,
на протяжении двух с половиной лет [84], т.е. примерно до
конца 1330 или начала 1331 г .
Оно прекратилось со смертью Александра Васильевича. Различные летописные
памятники по-разному датируют кончину этого князя. Своды, отразившие
летописание Твери, относят смерть Александра к 6839 г . [85],
а новгородское и московское летописание — соответственно к 6840 [86]
и 6841 гг. [87] В последних сводах статьи 6840 и 6841 гг.
компилятивны, в них записаны события разных годов, поэтому следует принять дату
тверского источника — 1331 г .
Она согласуется с расчетом лет княжения во Владимире Александра Суздальского. С
этой же датой совпадает время одной из поездок в Орду Ивана Калиты [88], который, согласно тексту о разделении Владимирского
княжества, именно в Орде получил по смерти князя Александра власть над всей
«Русьскою землею». Очевидно, это произошло в том же 1331 г . В следующем 1332 г . Калита вернулся на
Русь, причем требование им «закамского серебра» у Новгорода [89]
подсказывает, каким образом ему удалось добиться согласия хана Узбека на
воссоединение двух частей Владимирского великого княжества. Дело, очевидно,
решили деньги и подарки, щедро розданные московским князем в Орде, а также
обещания большего выхода с русских земель [90].
Так или иначе, но в 1332 г .
территория великого княжества Владимирского не только вернулась в те свои
пределы, какие существовали до 1328
г ., но и превысила их, включив в свой состав Стретенскую
половину Ростова.
Несколько расширив территорию великого княжения, Узбек
сделал, видимо, какие-то оговорки относительно Нижнего Новгорода и тянувших к
нему земель. Так можно думать на основании того, что в год смерти Ивана Калиты
его старший сын Симеон даже не поехал на похороны отца, «бяше бо былъ въ то
время въ Нижнемъ НовЪгородЪ» [91]. Пребывание Симеона в
этом городе стоит в прямой связи с его последующей борьбой с суздальским князем
Константином Васильевичем за Нижегородское княжение [92]
и должно быть расценено как стремление сохранить Поволжье в составе территории
великого княжества Владимирского. Естественно, подобного стремления не
возникало бы (как не возникло оно у наследников Калиты в отношении других
частей великого княжения или в отношении самого Владимира), если бы Поволжье в
свое время было отдано Калите на тех же условиях, что и Владимир. Очевидно, при
передаче московскому князю прежней территории Нижегородского княжества Ордой
были выдвинуты какие-то требования, наподобие тех, какими ранее обусловливалось
владение Переяславским княжеством Юрием Даниловичем. Скорее всего, Калита
получил Нижний Новгород только в пожизненное владение (быть может, на Нижний
монголо-татарами ему был выдан даже особый ярлык, отличный от ярлыка на великое
княжение). После смерти великого князя Ивана Поволжье, возможно в силу прежних
соглашений, было отторгнуто от Владимирского великого княжества и отдано ханом
Узбеком суздальскому князю Константину Васильевичу, младшему брату бывшего владимирского
князя Александра [93]. В результате в 1341 г . территория великого
княжества вновь уменьшилась: отпали Нижний Новгород, Городец и Унжа.
Впрочем, около того же времени эта потеря была,
по-видимому, несколько компенсирована. К Владимирскому великому княжеству был
присоединен Юрьев Польской. Последний раз самостоятельный юрьевский князь Иван
Ярославич упоминается в летописях при описании похода русских князей на
Смоленск зимой 1339/40 г., похода, предпринятого по приказу ордынского хана [94]. Поскольку позднее юрьевские князья в источниках уже не
фигурируют, А.В.Экземплярский сделал вывод о том, что «Иван Ярославич был
бездетным и его удел, как выморочный, присоединен к великому княжеству» [95]. С этим заключением А.В.Экземплярского можно согласиться,
хотя есть некоторые данные, заставляющие проявлять в вопросе о слиянии
территории Юрьевского княжества с территорией великого княжения известную
осторожность. Дело в том, что Юрьев как владение великого князя Московского и
Владимирского прямо назван только в духовной 1461—1462 гг. Василия Темного [96]. Более ранние завещания московских великих князей Юрьева
не упоминают. Возможно, однако, что Юрьев вместе с другими городами великого
княжения подразумевался в формуле духовных Дмитрия Донского и Василия
Дмитриевича: «...благославляю (старшего сына. — В.К.) великимъ княженьем» [97]. Во всяком случае, от начала XV в. сохранилось достоверное
свидетельство о том, что Юрьевом распоряжался великий князь [98].
При походе в 1382 г .
хана Тохтамыша на Дмитрия Донского Юрьев подвергся ордынскому нападению [99], что также может косвенно свидетельствовать о его
принадлежности к городам, находившимся под юрисдикцией великого князя.
Присоединение Юрьева к великому княжеству Владимирскому могло произойти в последний год жизни Ивана Калиты (при предположении, что юрьевский князь Иван Ярославич погиб в смоленском походе 1339/40 г.) или же несколько позже, при преемниках Калиты на владимирском столе — его сыновьях Симеоне Гордом и Иване Красном. Если верно первое предположение, то нужно признать, что до 40-х годов XIV в. территория великого княжества Владимирского неуклонно расширялась. Эта консолидация земель, на которые непосредственно распространялась власть великого князя, — одно из существенных проявлений объективного центростремительного процесса на русском Северо-Востоке в то время.
В 40—50-е годы XIV в., перед слиянием территорий Московского княжества и великого княжества Владимирского, которое произошло при Дмитрии Донском, в состав великого княжения входили собственно Владимир с Боголюбовым и Ярополчем [100], Кострома, Переяславль, Юрьев с относившимися к ним волостями, Стретенская половина Ростова, а также некоторые вологодские волости и великокняжеские части в Торжке и Волоке Ламском.
В целом это была довольно обширная территория, хотя и не
везде компактная. Земли, граничившие с владениями Новгорода Великого, были
отделены от центральных волостей великого княжества территориями других
княжеств, а костромские и владимирские волости разделялись владениями
ростовских, суздальских, а с 1341
г .— нижегородских князей. К сожалению, точные границы
великого княжества Владимирского за период до 60-х годов XIV в. указать почти
невозможно, поскольку прямых данных за первые две трети XIV в. не имеется, а
другие данные относятся преимущественно ко времени второй половины XV — начала
XVI в., когда владимирское великое княжество давно и прочно срослось с
Московским. Поэтому приходится идти иным путем и устанавливать границы великого
княжества Владимирского приблизительно, на основании определения границ
соседних с ним княжеств, что рассматривается уже в последующих главах работы.
Здесь же хотелось бы указать на прямое свидетельство XIV в. о существовании
владимирских рубежей. О них говорит договорная грамота великого князя Дмитрия
Ивановича Донского с рязанским князем Олегом Ивановичем 1381 г .: «А володимерское
порубежье по тому, как то было при вашемъ дЪдЪ, при великом князе при Иване
Даниловиче, и при вашем дядЪ, при великомъ князе при Семена, и при твоемъ отци,
при великомъ князе при ИванЪ» [101]. Приведенное
свидетельство важно тем, что оно говорит о наличии четких границ великого
княжения, в данном случае собственно Владимира с Рязанью, не только в 1381 г ., но и в первой
половине XIV в. при Иване Калите, когда Владимирское великое княжество ещё
существовало как самостоятельная политическая единица.
Выше было показано, что князья, занимавшие в первой половине XIV в. великокняжеский стол во Владимире, пытались не только расширить территориальные пределы этой единицы, но и закрепить за собой данную территорию. В последнем отношении показательно выделение в начале XIV в. великим князем Андреем Александровичем из состава Владимирского великого княжества Костромы в удел своему сыну Борису. Хотя в более поздний период подобные факты не известны, что объясняется, по-видимому, тем жестким контролем, какой установила Орда со времени хана Узбека над территорией великого княжества, однако указанная тенденция продолжала существовать. Теперь она проявлялась в том, что великие князья приобретали себе села на территории Владимирского княжества и сохраняли их за собой, передавая по наследству из поколения в поколение. Наиболее ранние примеры подобного рода относятся ко времени Ивана Калиты [10].
В целом, подводя итог анализу данных о территории великого
княжества Владимирского в 1301—1362 гг., можно констатировать, что эта
территория не была неизменной. Выявленные и рассмотренные факты говорят о том,
что она отличалась определенной динамичностью. С начала XIV в. по 1327 г . происходит
неуклонный рост территории Владимирского княжества. В 1328 г . в формирование этой
территории активно вмешивается Орда. Происходит деление великого княжества на
две части. Но в 1332 г .
благодаря стараниям Ивана Калиты эти части соединяются вместе. Тогда же к
Владимирскому великому княжеству придается Стретинская половина г.Ростова. В 1341 г . от владимирской
территории отторгается нижегородское Поволжье, однако около того же времени эта
потеря несколько компенсируется присоединением к Владимиру Юрьева. После этого
состав территории великого княжества Владимирского консолидируется и остается
неизменным до слияния с Московским княжеством при Дмитрии Донском в 1362 г ., а окончательно — в 1375 г ., когда ордынские
ханы перестали выдавать ярлыки на эту территорию князьям немосковских домов.
1.
ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1926-1928, т.1, стб.486, под 6811 г . ультрамартовским. О
дате см.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963, с.117.
2. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1889, т.1, с.53, примеч.138, с.58; СПб., 1891, т.2, с.268.
3. «Место погребения князя всегда характерно для его владельческого положения». - Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.77, примеч.1.
4. Так полагал и А.В.Экземплярский, правда в весьма осторожной и предположительной форме. - Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.266.
5.
22 мая 1299
г . князь Борис Андреевич находился в Новгороде Великом.
- НПЛ, с.330, ср. с.90. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.279.
6. ГБЛ, ф.178, № 3271. Известие помещено в первой части рукописи (л.1-65), написанной на бумаге со следующими водяными знаками: л.2-3 - голова быка с мачтой, завершающейся крестом и перевитой змеей; л.4-7 - герб с тремя лилиями, увенчаннный короной; л.11-33 - другой вариант головы быка с мачтой, завершающейся крестом и перевитой змеей; л.34-65 - голова быка с короной и цветком. Первый водяной знак по своему типу и параметрам (а=40, b=52, h = более 165; из-за дефектов листов рукописи некоторые размеры филиграней определить нельзя или можно установить с большим приближением) более всего соответствует знаку под номером XVI,238 справочника Г.Пиккара (Piccard G. Die Ochsenkopfwasserzeichen. Stuttgart, 1966. Т.1-3). Знак датируется 1491-1492 гг. Второй водяной знак соответствует № 1743 справочника Брике (Briques С.М. Les filigranes. Leipzig, 1923. Vol.1-4) и датируется 1481-1489 гг. Третий водяной знак по типу и параметрам (а=71, b=55, с=29-30, h=165?) ближе всего к знаку XVI,149 справочника Г.Пиккара. Он датируется 1492-1493 гг. Четвертый водяной знак по типу и параметрам (а=42,44; b=40; с=30,32) соответствует знаку XV,353 справочника Г.Пиккара и датируется 1475-1482 гг. Следовательно, первая часть рукописи (л.1-65) написана в конце 80- начале 90-х годов XV в., а не в конце XV - начале XVI в., как полагал И.М.Кудрявцев на основании анализа лишь двух водяных знаков этой части рукописи. См.: Кудрявцев И.М. Сборник последней четверти XV- начала XVI в. из Музейного собрания. - ГБЛ. Записки Отдела рукописей, М., 1962, т.25, с.224.
7.
ГБЛ, ф.178, № 3271. л .39об. Запись не вполне точно издана
И.М.Кудрявцевым. - Кудрявцев И.М. Указ. соч., с.251
8. Кудрявцев И.М. Указ. соч., с.251-252.
9. Там же, с.252.
10.
ГИМ, Синод., № 172, л .202об. О дате см.: Покровский А.А.
Древнее псковско-новгородское письмеяное наследие. - В кн.: Труды XV
Археологического съезда в Новгороде. М., 1916, с.241.
11. ПСРЛ. СПб., 1851, т.5, с.204; Пг., 1915, т.4, ч.1, вып.1, с.253.
12.
Видимо, вплоть до утраты самостоятельности в 1477 г . новгородцы не
переставали считать Вологду своей волостью. - ГВН и П. № 1, с.9; № 2, с.11
(самые ранние упоминания Вологды в качестве новгородской территории); № 22,
с.40; № 77, с.132 (самые поздние упоминания Вологды в качестве новгородской
территории).
13. ГВН и П, № 7, с.17.
14. И позже часть вологодской территории находилась под юрисдикцией великого князя, о чем свидетельствует находка в Вологде печати, приписываемой князю Дмитрию Михайловичу, занимавшему владимирский стол в 1322-l326 гг. - Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X-XV вв. М., 1970. т.2, с.13.
15.
ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.85, под 6811 г . ультрамартовским. О
дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.117-118. В древнейшей Лаврентьевской
летописи под 6811 г .,
также ультрамартовским, помещено более краткое сообщение о смерти Ивана
Переяславского (ПСРЛ, т.1, стб.486).
16. ПСРЛ, т.18, с.85.
17.
А.В.Экземплярский полагал, что у Ивана Дмитриевича
Переяславского были два младших брата - Александр и Иван (Экземплярский А.В.
Указ. соч., т.1, с.52, 286-287). Оба князя упоминаются в летописях по одному
разу. Имя: Александра Дмитриевича встречается в ряде летописных сводов. В них
сообщается о его кончине в 1292
г . (Там же, с.286 и примеч.516). Александр, естественно,
не мог быть наследником пережившего его старшего брата. Но дело не только в
этом. Похоже, что князь Александр был сыном не Дмитрия Александровича
Переяславского, как думал А.В.Экземплярский, а Дмитрия Борисовича Ростовского.
Во всяком случае, великокняжеское летописание не знает о смерти князя
Александра (ПСРЛ, т.18, с.82; М.; Л., 1949, т.25, с.98). Самые же ранние своды,
которые говорят о его кончине, - ростовского происхождения (ПСРЛ т.1, стб.527;
Насонов А.Н. Летописный свод XV века (по двум спискам). - В кн.: Материалы по
истории СССР. М., 1955, вып.2, с.297; ср.: ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.247; т.5,
с.201). Что касается приписываемого исследователями Ивану Переяславскому брата
Ивана, то единственное известие о нем, именно о его рождении в 1290 г ., до недавнего
времени содержалось только в Никоновской летописи (Экземплярский А.В. Указ.
соч., т.1, с.287). С обнаружением Рогожского летописца выяснилось, что то же
сообщение есть и в этом памятнике. Но из его текста вытекает, что речь идет не
о втором сыне Иване Дмитрия Переяславского, а о сыне Иване Дмитрия Ростовского.
Последний в этом источнике титулуется просто князем, тогда как Дмитрий
Переяславский - великим князем (ПСРЛ. Пг., 1922, т. 15, вып. 1, стб. 35).
18. К сходной мысли приходил и С.М.Соловьев: «По старине великий князь должен был распорядиться этою родовою собственностью по общему совету со всеми родичами, сделать с ними ряд, по древнему выражению» (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.197). Но в заключении С.М.Соловьева справедливо далеко не все. Верно, что выморочным княжеством должен был распорядиться великий князь Владимирский. Но то, что он делал это по совету с другими князьями, не находит опоры в источниках. Да и сама «старина» была недавней. Подобная традиция могла появиться «не ранее XIII в., когда обособились княжества сыновей Всеволода Большое Гнездо. Ср. критику этого взгляда С.М.Соловьева А.Е.Пресняковым (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.90, примеч.4).
19.
Так можно думать на основании того, что при вокняжении в
Переяславле московского князя Даниила Александровича в конце 1302 г . оттуда сбежали
наместники великого князя Андрея (ПСРЛ, т.18, с.85). То же сообщение читалось и
в сгоревшей Троицкой летописи (Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция
текста. М.; Л., 1950, с.350 и примеч. 4 - выписка Н.М.Карамзина).
20. ПСРЛ, т.1, стб.486.
21.
По древнерусским представлениям о временах года, осенью
считалось время о 24 сентября по 25 декабря. - ГИМ, Епарх., № 410, л .7об. - 33.
22. ПСРЛ, т.1, стб.486.
23.
Там же, т.18, с.85; М., 1965, т.30, с.100, везде под 6811 г . ультрамартовским.
24. ПСРЛ, т.1, стб.486.
25. Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1902, т.2, стб.258; Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.4, стб.98; Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.197; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.89-90; Любавский М.К. Образование основной государственной территории велокорусской народности. Л., 1929, с.42; Очерки истории СССР: Период феодализма. IX-XV вв. М., 1953, ч.2, с.134; Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960, с.459; История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966, т.2, с.84. Только А.Н. Насонов указал, правда в весьма осторожной форме, что текст о «благословении» Иваном Переяславским московского князя «обнаруживает московскую точку зрения», но сам факт «благословения» он как будто не отрицал (Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с.95).
26.
ПСРЛ, т.18, с.86; Приселков М.Д. Троицкая летопись...,
с.351 и примеч.2 (выписка Н.М.Карамзина); везде под 6812 г . ультрамартовским. О
дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.120. Принимая во внимание запись 1303 г . об освящении церкви
св. Богородицы в Вологде, надо полагать, что Андрей Александрович прибыл на
Русь до 15 августа 1303 г .
27. ПСРЛ, т.18, с.86; Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.351 и примеч.2 (выписка Н.М.Карамзина).
28. Согласно выписке Н.М.Карамзина из пергаменной Троицкой летописи, великий князь Андрей Александрович поехал в Орду после того, как Даниил Московский согнал его наместников из Переяславля (Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.350 и примеч.4). В таком случае мотивы поездки великого князя к хану стали бы совсем прозрачны. Однако в древнейшем тексте, сохраненном Лаврентьевской летописью, последовательность событий иная: сначала Андрей отправился в Орду, а затем московский князь сел в Переяславле.
29. ПСРЛ, т.18, с.86; Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.357 и примеч. 2.
30.
Точная дата смерти Даниила Московского приведена в
Лаврентьевской летописи (ПСРЛ, т.1, стб.486, под 6812 г . ультрамартовским). О
дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.123.
31. Щербатов М.М. Указ. соч., т.3, стб.262-263; Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, стб.99; Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.197-198; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.90; Черепнин Л.В. Указ. соч., с.459.
32. Это обстоятельство подметил еще Н.М.Карамзин. Заключая, что Переяславль достался в итоге Юрию Московскому, а не великому князю Андрею Александровичу, он писал о том, что «великий князь, хваляся впрочем милостию Тохты, не достигнул своей цели» (Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, стб.99). Однако в чем состояла милость Тохты, Н.М. Карамзин выяснить не попытался.
33.
Наиболее раннее и подробное описание Переяславского съезда 1303 г . содержалось в
пергаменной Троицкой летописи (Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.351 и
примеч.2 - точная выписка Н.М. Карамзина). Тот же текст читается в Симеоновской
летописи (ПСРЛ, т.18, с.86) и в несколько сокращенном виде - во Владимирском
летописце (ПСРЛ, т.30, с.100); по сравнению с другими летописями здесь указано,
что «разведоша княжениа», однако неясно, творчество ли это позднейших
сводчиков, или древнее чтение. О том, что в названных летописных сводах
отразилось московское великокняжеское летописание XIV в., см.: Приселков М.Д.
История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, с.113-114, 120-121; Тихомиров
М.Н. Летописные памятники б.Синодального (Патриаршего) собрания. - Ист. зап., 1942,
вып.13. с.256-261.
34.
НПЛ, с.92, под 6812 г . мартовским; ПСРЛ, т.18, с.86, под 6813 г . ультрамартовским. О
датах см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.120, 277.
35.
Сообщение о завещании Андреем Александровичем великокняжеского
стола во Владимире Михаилу Ярославичу Тверскому сохранилось только в Повести о
смерти в Орде тверского князя: Андрей «благослови его на свои столъ на великое
княжение» (ГБЛ, ф.310, № 1254,
л .33). Тверской книжник - автор Повести - объяснял такой
не имевший прецедента в прошлом акт номинации старшинством Михаила среди других
князей Северо-Восточной Руси: «ему же по старЪшиньству дошелъ бяше степени
великого княжения» (Там же, л.33об.), а также его наследственными правами на
владимирский стол: Михаил был посажен на стол «дЪда, отца своего» (Там же,
л.34). Несомненно, что указанные нормы действительно имели место и сыграли
определенную роль в политическом решении великого князя Андрея Александровича.
Однако едва ли воздействие на волеизъявление великого князя Андрея феодальных
прав, которыми обладал Михаил Тверской, было решающим. Видимо, между великим и
тверским князьями существовало какое-то соглашение. Дело в том, что Андрей
Александрович женился в 1294
г . Его женой стала дочь ростовского князя Дмитрия
Борисовича Василиса (ПСРЛ, т.1, стб.527; Насонов А.Н. Летописный свод XV
века..., с.298 - сообщение восходит к ростовскому летописанию XIII в.). Хотя в
литературе иногда встречается мнение, согласно которому это был второй брак
князя Андрея Александровича, но еще А.В.Экземплярский заметил, что для
подобного предположения нет данных (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.388,
примеч.1086). Если брак с Василисой Дмитриевной был у великого князя Андрея
первым, то его сыну Михаилу в год смерти отца было только 10 лет, скорее же
всего и того меньше, потому что старше Михаила был умерший в 1303 г . Борис. Можно
догадываться, что в сложной политической обстановке, показателем которой явился
Переяславский съезд, Андрей Александрович не решился передать великокняжеский
стол своему малолетнему наследнику, реалистически предвидя неизбежную борьбу за
Владимир других князей и возможную трагическую участь сына. Поэтому он завещал
великое княжение тверскому князю, а за сыном оставил свой отчинный Городец,
оговорив, вероятно с Михаилом, сохранность владений молодого княжича. Подобным
компромиссом, видимо, и решилась судьба великого княжения.
36.
НПЛ, с.92, под 6812 г . мартовским; ПСРЛ, т.18, с.86, под 6813
и 6814 гг. ультрамартовскими. О датах см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.120,
351; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.103-105 (но события 1305 г . в Нижнем Новгороде
интерпретированы неверно).
37.
ГБЛ, ф.310, № 1254, л .33.
38.
ПСРЛ, т.18, с.86, под 6814 г . ультрамартовским.
39.
ГБЛ, ф.310, № 1254, л .34.
40.
ПСРЛ, т.18, с.86, под 6814 г . ультрамартовским.
41. Там же. Возможно, что идентичное сообщение читалось в пергаменной Троицкой летописи (ср.: Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.352 и примеч.3).
42. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, стб.98.
43. Там же, т.4, примеч.326.
44. Ср. также замечание Н.М.Карамзина о территориях, упомянутых в одной из духовных Ивана Калиты: «В сем завещании не сказано ни слова о Владимире, Костроме, Переяславяе и других городах, бывших достоянием великокняжеского сана...» (Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, стб.151).
45. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.197.
46. Там же, с.338, примеч.352.
47. Там же.
48. ДДГ, № 1, 3, 4, 8.
49.
Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1786, ч.3, с.219
(именно на эту страницу ссылался С.М.Соловьев). Ср.: ПСРЛ. СПб., 1885, т.10,
с.233-234 (в издании работы С.М. Соловьева 1960 г . указание на страницы
т.10 ПСРЛ сделано неточно. См.: Соловьев С.М. Указ. соч., т.2, кн.3/4, с.338,
примеч.4).
50. Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957, т.2, с.14 (о том, что Даниил «принял наследство» - удел князя Ивана Переяславского), 16 (замечание, что Переяславль не упомянут в духовной грамоте Ивана Калиты).
51. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.100, примеч.1; ср.: с.89-91; с.90, примеч.4; с.117-118.
52. Там же, с.89-90; с.90, примеч.1.
53. Там же, с.267 и примеч.2.
54. Любавский М.К. Указ. соч., с.43.
55. Там же.
56. Там же, с.47 (характеристика территории Московского княжества с включением переяславских земель).
57. Там же, с.59 (князь Дмитрий Константинович Суздальский «получил ярлык на великое княжение - город Владимир и Переяславль со всею областью»).
58. Очерки истории СССР..., с.134, 191; Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV-XV веков. М., 1959, с.37; Черепнин Л.В. Указ. соч., с.455-456; История СССР с древнейших времен до наших дней, т.2, с.84. Впрочем, на иных позициях стоял А.Н.Насонов. Он полагал, что Переяславль являлся великокняжеской территорией, вошедшей в состав Владимирского княжества в первой половине XIV в. (Насонов А.Н. Монголы и Русь, с.94, 96). К сожалению, исследователь не привел аргументов, подкрепляющих его заключение о воссоединении Переяславля с Владимиром в первой половине XIV в.
59. Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв.: Переяславский уезд. М.; Л., 1966, с.7.
60. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.72; т.18, с.101.
61. Там же, т.15, вып.1, стб.72. Этот же текст несколько сокращен в Симеоновской летописи (Там же, т.18, с.101) и изменен в Никоновской (Там же, т.10, с.233-234).
62. Там же, т.15, вып.1, стб.37; ПСРЛ, СПб., 1863, т.15, стб.409; Насонов А.Н. О тверском летописном материале в рукописях XVII в. - В кн.: Археографическим ежегодник за 1957 год. М., 1958, с.34.
63. НПЛ, с.94, 95; ПСРЛ, т.18, с.86-88, под 6814, 6816 ультрамартовскими и 6822, 6823 мартовскими годами. О датах см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.351.
64. ПСРЛ, т.18, с.87.
65. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, примеч.210 (походи датированы соответственно 1305 и 1308 гг.); Соловьев С.М. Указ. соч., т.2; кн.3/4, с.217 (походы датированы 1306 и 1308 гг.).
66. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.105, 121.
67.
ГИМ, Синод., № 722, л .180. Ср.: Пресняков А.Е. Указ. соч.,
с.121, примеч.1.
68. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, примеч.227.
69. Приношу искреннюю благодарность Л.М.Костюхиной за эти указания.
70. Имя писца было скрыто тайнописью, которую расшифровали А.В.Горский и К.И.Невоструев. - Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1855, отд.1, с.293.
71. ПСРЛ, т.18, с.87.
72. Сергий. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901, т.2, с.339. Здесь указано, что в римских мартирологах память Тита отмечалась еще и 4 января, но греческие мартирологи содержат единственную дату - 25 августа.
73. Следует напомнить, что 6816 год Симеоновской летописи, под которым помещено известие о бое под Москвой, - ультрамартовский.
74.
Видеть в приписке Домида отражение событий не 1307, а 1317 г ., к чему склонялся
Н.М. Карамзин, невозможно не только ввиду изложенных выше аргументов, но и
потому, что в 1317 г .
сражение между Юрием Московским и Михаилом Тверским было вызвано не их спором
из-за Новгорода, а стремлением Юрия навсегда покончить с Михаилом - своим
постоянным соперником в борьбе за великокняжеский стол во Владимире. - ГБЛ,
ф.310, № 1254, л .35об.
75.
НПЛ, с.92, под 6816 г . мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г.
Указ. соч., с.277. Столь позднее посажение Михаила Тверского в Новгороде
(спустя примерно 2,5 года после занятия им владимирского великокняжеского
стола) косвенно подтверждает правильность сообщения Домида о том, что в 1307 г . вопрос о
новгородском князе еще не был решен и за Новгород с Михаилом боролся Юрий
Московский.
76.
ПСРЛ, т.18, с.86, под 6814 г . ультрамартовским.
77.
ГБЛ, ф.256, № 364, л .233об. - 234.
78. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.636.
79. ПСРЛ, т.15, стб.465.
80. НПЛ, с.469. Среди историков достоверность этого известия вызвала полемику. Н.М. Карамзин, например, признавал точность приведенного летописного сообщения и писал о том, что Александр Суздальский «господствуя в своей частной области, управлял и Владимиром...» (Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, стб.141 и примеч.302). А.Е.Пресняков считал, что процитированная Н.М.Карамзиным рукопись затерялась (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.139, примеч.5), но М.Н.Тихомиров привел доказательства того, что Н.М.Карамзин имел здесь в виду известный в настоящее время Синодальный список Псковской летописи (Тихомиров М.Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962, с.175). С.М.Соловьев, напротив, полагал, что все известие «не заслуживает большого внимания» (Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.345, примеч.458). В свою очередь, А.Е.Пресняков не соглашался с С.М. Соловьевым и, подробно прокомментировав запись о разделе Владимирского великого княжения между суздальским и московским князьями, показал, что она отразила реальный факт (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.138-140, 139, примеч.5 - критика С.М. Соловьева). А.Н.Насонов присоединился к мнению А.Е.Преснякова, акцентировав внимание на том, что данное известие иллюстрирует вмешательство монголо-татар в ход образования территории великого княжества Владимирского (Насонов А.Н. Монголы и Русь, с.96-98).
81. НПЛ, с.469.
82.
НПЛ, с.98, под 6835 г . мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г.
Указ. соч., с.283.
83.
Летописи сообщают о поездке в 1328 г . в Орду князя Ивана
Даниловича и о его возвращении на Русь в том же году (НПЛ, с.98; ПСРЛ, т.15,
вып.1, стб.44, везде под 6836
г . мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч.,
с.277, 283). Можно полагать, что в результате этой поездки Калита и получил от
хана свою часть территории великого княжения. Во всяком случае, московский
летописец второй половины XIV в. прямо датировал 1328 г . посажение Ивана
Калиты «на ведикомъ княжении всеа Русии» (ПСРЛ, т.18, с.90).
84. А.Е.Пресняков обратил внимание на то, что в статье «Кто колико княжилъ», присоединенной к Новгородской I летописи, время княжения во Владимире Александра Суздальского определено в три года (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.139, примеч.4; ср.: НПЛ, с.467). Но по справедливому мнению того же исследователя, «самая отчетливость... представлений» источника, сообщившего о делении Владимирского княжества, «говорит в пользу его осведомленности и достоверности его сообщений» (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.139). Следовательно, указание на два с половиной года княжения Александра более точное, чем свидетельство о трех годах его «сидения» во Владимире.
85. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.46; т.15, стб.417.
86. Там же, т.4, ч.1, вып.1, с.265; т.5, с.220.
87. Там же, т.18, с.92.
88.
НПЛ, с.344, под 6839 г . мартовским. О дате см.: Бережков Д.Г.
Указ. соч., с.284.
89.
НПЛ, с.99, под 6840 г . мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г.
Указ. соч., с.284.
90. До сих пор факт запроса Иваном Калитой у Новгорода «закамского серебра» не находил у историков реального объяснения (Ср.: Насонов А.Н. Монголы и Русь, с. 106). Одновременно с частью великого княжества Владимирского Калита получил Стретенскую половину г.Ростова. Об этом см.: Кучкин В.А. Земельные приобретения московских князей в Ростовском княжестве XIV в. - / В кн.: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978, с.189.
91.
ПСРЛ, т.18, с.93, под 6848 г . мартовским. О дате
см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.351.
92.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.55, под 6851 г . Ср.: Насонов А.Н.
Монголы и Русь, с.97-98.
93.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.54, под 6849 г .
94.
Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.363; ПСРЛ, т.18,
с.93, везде под 6847 г .
мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.351.
95. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.260.
96. ДДГ, № 61, с.194. Интересно, что Юрьев упоминается здесь без относившихся к нему волостей.
97. Там же, № 12, с.34; № 21, с.58. В двух других духовных великого князя Василия Дмитриевича эта формула несколько изменена: «а дастъ богъ сыну моему... княженье великое». - Там же, № 20, с.56; № 22, с.61 («великое княженье»).
98.
ПСРЛ, т.18, с.155, под 6916 г .
99.
НПЛ, с.378, под 6890 г .
100. О принадлежности Ярополча к Владимиру см.: ДДГ, № 13, с.38.
101. Там же, № 10, с.29. О датировке грамоты см.: Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV-XV вв. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1958, вып.6, с.286-287.
102. ДДГ, № 1, с.10.
|
|
|
|
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ТВЕРСКОГО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА В XIV в.
Переход владимирского великокняжеского стола в 1305 г . к Михаилу Ярославичу
Тверскому свидетельствовал о том, что к тому времени Тверское княжество стало
самым могущественным в Северо-Восточной Руси. Помимо собственно Твери, это
княжество включало в свой состав такие возникшие еще в домонгольский период
города, как Кснятин и Зубцов, и появившиеся уже в послемонгольское время Кашин
и Старицу (Городок, Городеск) [1]. Однако более или
менее точные пределы Тверского княжества в XIV в. устанавливаются с трудом.
Причина этого - в малочисленности сохранившихся источников. Известно всего семь
тверских грамот за XIV в. [2] Известны и тверские
летописные памятники. Но несмотря на всю проделанную работу по их выявлению и
реконструкции [3], до сих пор остается справедливой
характеристика, данная им А.А.Шахматовым: тверские летописи дошли «в жалких
отрывках, сбитых, перепутанных с заимствованиями из других сводов» [4]. К тому же само содержание этих отрывков дает мало
сведений за XIV в. по исторической географии Тверского княжества. Немного таких
свидетельств и в литературных произведениях древней Твери, родословных росписях
ее князей, нумизматическом и сфрагистическом материале. Естественно, что при
подобном состоянии источниковой базы для характеристики тверской территории XIV
в. должны быть привлечены значительно более поздние историко-географических
факты, непосредственно относящиеся к тверским землям, а также идентичные данные
XIV в., касающиеся сопредельных с Тверью территорий.
Наиболее полные и достаточно ранние сведения имеются по южной и юго-западной границам Тверского княжества.
Летом 1371
г . литовский великий князь Ольгерд обратился с посланием
к главе восточной православной церкви константинопольскому патриарху Филофею [5]. В послании Ольгерд жаловался на русского митрополита
Алексея, поддерживавшего московского князя, который захватил у Литвы «города:
Ржеву, Сишку, Гудин, Осечен, Горышено, Рясну, Луки Великие, Кличень, Вселук,
Волго, Козлово, Липипу, Тесов, Хлепен, Фомин городок, Березуеск, Калугу,
Мценеск» [6]. Среди прочих здесь перечислен ряд пунктов,
ранее принадлежавших Смоленскому княжеству и расположенных близ границ
Тверского княжества. К южным тверским рубежам примыкали земли Березуеска,
Фомина городка и Хлепеня. Березуеск и Фомин городок были даже центрами особых
княжений. Судя по родословным князей Фоминских и Березуйских, Фоминское
княжество выделилось из Смоленского где-то в первой половине XIV в., а
несколько позже из Фоминского княжества выделилось Березуйское [7].
Фомин городок стоял на р.Вазузе в том месте, где в эту реку впадает р.Осуга [8]. Ниже Фомина городка на той же Вазузе находился и город Березуеск, от которого сохранилось городище [9]. Также на Вазузе стоял город Хлепень — в первой половине XVI в. пентр особого наместничества в Русском государстве [10]. Хлепень был расположен по Вазузе ниже Березуеска, близ впадения в Вазузу р.Городенки [11].
К северо-западу от этих городков находилась Ржева — современный Ржев. В XIV в. этот город стоял на высоком мысу левого берега Волги при впадении в нее р.Халынки [12]. В XIV в. Ржева на непродолжительное время переходила в руки тверских князей [13].
На север от собственно ржевских лежали земли Рясненской волости. Ее центр — городок Рясна — стоял на р.Тьме близ современного села Рясна [14]. Территория же волости захватывала верховья рек Малой Коши, Тьмы и Итомли [15]. Судя по писцовым описаниям XVII в., Рясна граничила с территорией, в административном отношении тянувшей к Торжку (Новому Торгу) [16]. В XVIII в. вместе с приписанною к ней новоторжскою Страшевскою губою Рясна вошла в состав Ржевского уезда [17]. Центром этой губы были Страшевичи, стоявшие к северо-востоку от Рясны на той же дороге из Торжка в Ржеву, что и Рясна [18].
На юго-западе Рясненская волость соседила с Осеченом, также
упомянутым в грамоте 1371 г .
Ольгерда патриарху Филофею. Осеченская волость первоначально занимала,
вероятно, территорию по обоим берегам Волги [19].
Сам Осечен, центр волости, был расположен, по-видимому, на левом берегу Волги,
там, где писцовые книги XVII в. фиксируют погост Осечну с церковью Рождества
богородицы [20].
О принадлежности Рясны и Осечена Литве не только перед 1371 г ., а и в первой
половине XIV в. свидетельствует запись Новгородской I летописи под 1335 г . о посылке Иваном
Калитой рати с Торжка, которая пожгла «городкЪ Литовьскыи ОсЪченъ и Рясну и
иных городовъ много» [21]. Следовательно, к середине 30-х
годов. XIV в. верховья рек Волги и Тьмы были уже литовскими, и тверская
территория не могла простираться далее этих географических объектов.
Литовским было и нижнее течение Вазузы. Но при выходе из Вазузы в Волгу, против устья Вазузы, на левом берегу Волги стояда тверская крепость Зубцов [22]. Источники указывают и на другие тверские центры в данном районе.
Под 1368
г . летописи сообщают, что литовский князь Андрей
Ольгердович Полоцкий «воевалъ Хорвачь да Родню» [23],
но не разъясняют, к территории какого княжества относились эти волости или
поселения. На основании иного сообщения тех же сводов выясняется, что Родня
являлась частью тверской территории.
В 1370 г .
московский великий князь Дмитрий Иванович «съ всею силою приходилъ воевать
ТфЪрьскыхъ волостии, самъ стоялъ на РоднЪ, а воеводы своя послалъ Зубцева
имать...» [24]. Из приведенного летописного текста
следует, что Родня принадлежала Твери и находилась недалеко от тверского
пограничья, поскольку из Родни московский князь послал рать осаждать тверской
порубежный город Зубцов. Если Родня была владением тверского князя, то
становится ясным, что в 1368
г . Андрей Ольгердович пустошил тверские земли. В таком
случае Хорвач также должен быть отнесен к Твери. Местонахождение древней Родни
определяется по селу Родня XIX в. на Волге [25].
Что касается Хорвача, то, как установил Н.Д.Квашнин-Самарин, так, очевидно,
называлось позднейшее село Погорелое городище, близ которого протекает ручей
Хорвач [26]. Погорелое городище находится на юг от
Родни и к востоку от Зубцова, на мысу при слиянии рек Держи и Горянки, на
правом берегу р.Держи [27].
Положение еще одной тверской волости — Олешни —
свидетельствует о том, что тверская граница проходила южнее Хорвача. Олешня
упоминается в духовной грамоте Ивана III. Последний завещал ее своему пятому,
самому младшему сыну Андрею. Иван Васильевич предназначал ему бывшие тверские
земли: «Холмъских вотчину, Холмъ и Новой городок, да волости Олешню, да волость
Синюю, и иные волости, и пути, и села, со всЪми пошлинами по тому, по каа мЪста
тЪ отчины, и волости, и пути, и села писал писецъ нашъ АндрЪи Карамышев» [28]. Андрей Карамышев в 1491 г . описывал именно Холм
и Новый городок [29]. Следовательно, волость Олешня,
наряду с волостью Синей, находилась в пределах территории этих двух
административных центров. А поскольку обе волости называются вместе, можно думать,
что они были расположены рядом.
Местоположение волости Синей, упоминаемой вместе с
дворцовыми селами Раковым и Вахновым в меновной грамоте от 15 января 1566 г . между Иваном IV и
его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким, В.С.Борзаковский
правильно указал в бассейне р.Синей, левого притока р.Держи. На этой же р.Синей
стояли и села Раково и Вахново [30].
Что касается волости Олешни, то В.С.Борзаковский пытался
локализовать ее по топонимам с основой на Алеш-. Найдя д.Алешево Зубцовского
уезда близ р.Держи, т.е. недалеко от волости Синей, исследователь поместил
Олешню в названном районе. Однако такая локализация вызывает возражение уже по
самой своей методике. К тому же другие данные позволяют более точно определить
местоположение Олешни. 21 сентября 1539 г . Иосифо-Волоколамскии монастырь получил
от правительства жалованную грамоту на село Фаустову гору в Зубцовском уезде [31]. В тексте грамоты содержалось указание на невзимание с
крестьян этого села мыта и иных пошлин, «коли повезут те хрестьяне монастырские
дрова и бревна и всякой лес из Олешни рекою Возузою мимо Хлепень...» [32]. Село Фаустова гора находилось близ р.Шешмы, правого
притока Вазузы. На Шешме стоял ряд деревень, тянувших к этому селу [33]. Олешня, упомянутая в грамоте 1539 г ., несомненно, та
самая волость Олешня, которая фигурирует в завещании Ивана III 1504 г . и в меновной Ивана
IV и Владимира Старицкого 1566
г . [34] Исходя из положения
с.Фаустова гора, указания грамоты 1539 г . на заготовку леса в Олешне и дальнейший
провоз его по Вазузе, необходимо придти к заключению, что Олешня XVI в. лежала
не на север от волости Синей у деревни Алешево при р.Держе, как считал
В.С.Борзаковский, а на запад от нее, где-то между реками Шешмой и Вазузой,
очевидно ближе к последней, т.е. к юго-западу от Погорелого городища. Все
сказанное о волости Олешне относится к XVI в. Можно ли распространить
полученные выводы на более ранний период, на время самостоятельного
существования Тверского княжества? Имеющийся материал позволяет ответить на
поставленный вопрос положительно.
Под 1285
г . в Лаврентьевской летописи сообщается, что «воевали
Литва ТфЪрьского владыки волость Олешню...» [35].
Нападение литовцев было отражено объединенной ратью тверичей, москвичей,
волочан, новоторжцев, зубчан и ржевичей. Участие в военных действиях жителей
Зубцова и Ржевы дает основание полагать, что Олешня находилась где-то
неподалеку от этих городов, а тождество названий владения тверского епископа с
тверской волостью духовной Ивана III, расположенной вблизи Зубцова и Ржевы,
заставляет признать идентичность Олешни XIII в. и Олешни XVI в. [36]
Становится очевидным, что Олешня была древней волостью, существовавшей в период
независимого Тверского княжества, и что ее граница со старыми смоленскими
землями в широтном отношении была расположена южнее, чем Погорелое городище или
порубежный Зубцов.
Таким образом, данные о литовских городках, содержащиеся в
Послании 1371 г .
литовского великого князя Ольгерда константинопольскому патриарху Филофею, в
сочетании со сведениями о тверских волостях на юг от Твери позволяют
сравнительно точно охарактеризовать южные и юго-западные пределы Тверского
княжества XIV в.
Что касается западной границы Тверского княжества, то здесь Тверь соседила непосредственно главным образом не со смоленскими, позднее с литовскими, волостями, а с новоторжскими землями. Ранние свидетельства о новоторжско-тверском рубеже довольно расплывчаты и неопределенны, но на их основании можно говорить о наличии границы между Тверью и Торжком с самого момента образования Тверского княжества. Так, в договорной грамоте Новгорода с Михаилом Ярославичем Тверским, составленной между 1294 и 1300 гг. [37], говорится, что «межю ТфЪрью и Новагорода розъЪздъ по давнои пошлинЪ. А кто будеть закладень позоровалъ к тобЪ, а жива в Новъгородьскои волости, тЪхъ ти ся всЪхъ отступити Новугороду. А кто будеть давныхъ людии в Торъжьку и въ ВолоцЪ, а позоровалъ ко ТфЪри при ОлександрЪ и при ЯрославЪ, тЪмъ тако и сЪдЪти, а позоровати имъ к тобЪ» [38]. Текст грамоты содержит прямое указание на давность («пошлость») «розъЪзда», т.е. рубежа, между владениями Новгорода и тверского князя. Рубеж Твери с Новгородом автоматически означал наличие ее границы с Торжком — частью новгородской территории [39], причем границы древней, установленной, судя по всему, еще при первых тверских князьях Александре и Ярославе Ярославичах.
В договорной грамоте 1374 г . между Тверью и Новгородом их граница
конкретизируется: «А водЪ, земли межю ТфЪрью и Торжькомъ, Кашиномъ, БЪжицами
старыи рубежь правый, по старымъ грамотамъ» [40].
Указания на соседство тверских и новоторжских земель
имеются и в летописях. Под 1312
г . новгородский свод сообщает, что «заратися князь
Михаиле к Новугороду и намЪстникы своя выводе, не пустя обилья в Новъгород, а
Торжекъ зая и БЪжичи и всю волость» [41]. Очевидно, что,
пытаясь не допустить провоза хлеба в Новгород Великий, тверской князь захватил
прежде всего соседние с его владениями новгородские волости и среди них Торжок.
Рогожский летописец сохранил описание военных действий
новгородцев против Михаила Ярославича Тверского. Осенью 1317 г . новгородская рать
подошла к Торжку и простояла здесь шесть недель, пытаясь договориться с великим
князем Юрием Московским о совместном выступлении против Твери. Так и не получив
известий от Юрия, новгородцы самостоятельно начали военные действия «ис Торжку,
почаша воевати по рубежу» [42]. Следовательно,
граница между Тверью и Торжком в начале XIV в. была довольно определенной, хотя
эта определенность и не раскрыта источником.
Поэтому хотя бы для примерной локализации древнего новоторжско-тверского рубежа приходится прибегать к иным данным.
В конце XIV или начале XV в. новгородский боярин Юрий
Онцифорович продал некоему Михаилу Федоровичу, как полагает С.Б.Веселовский,
князю Фоминскому [43], принадлежавшее ему с.Медно. Земли
этого села были расположены по обоим берегам р.Тверцы [44].
Село Медно на Тверце сохранилось до настоящего времени. Оно находится в 28 км к западу от г.Калинина
на дороге Калинин — Торжок. В XV в. с.Медно считалось принадлежавшим
новоторжской территории [45] и находившимся на
тверском рубеже [46]. Так было, очевидно, и в конце XIV —
начале XV в., поскольку купчую на проданное Юрием Онцифоровичем с.Медно скрепил
своею печатью новгородский наместник в Торжке [47].
По данным конца 40-х — начала 50-х годов XV в.,
с.Хутунецкое с деревнями также стояло «в Торжку на Тферском рубеже» [48]. Несколько ранее, в 1446 или в 1447 г ., это село,
называвшееся еще и Воскресенским, было дано вкладом в Троице-Сергиев монастырь [49]. Вклад был сделан инокиней Евдокией, вдовой бывшего
владельца села Ивана, в пострижении Ионы, Кумгана [50].
По прозвищу владельца с.Воскресенское-Хутунецкое уже во второй половине XV в. в
официальных актах стало именоваться Кунганцевским или Кунганцовым [51].
С.Кунганово известно и поныне. Оно стоит в среднем течении р.Тьмы, примерно в 31 км к востоку от
упоминавшегося уже литовского городка Рясны [52].
В 40-х годах XV в. здесь проходила новоторжско-тверская граница. Надо полагать,
что так или почти так обстояло дело и раньше, в начале XV и даже в XIV в. [53] Во всяком случае, владелец с.Хутунецкого новоторжский
боярин Иван Кумган упоминается в 1422
г . [54]
Еще более детализировать границу Тверского княжества с
Торжком на основании так называемого Отводного списка новоторжских земель 1476 г . пытался
В.С.Борзаковский. Отводной список представляет собой перечень земель, сел и
деревень Новоторжского уезда, отписанных сначала к владениям московского
великого князя, а затем возвращенных им новгородскому архиепископу и
новгородским боярам [55]. Поскольку дело касалось земельных
участков, разбросанных по всей территории Новоторжского уезда, показания
Отводного списка представляют ограниченный интерес при реконструкции
новоторжско-тверского рубежа. Из 23 географических названий Списка
В.С.Борзаковскому удалось локализовать лишь два: Теребино и Подол [56].
Деревня Подол, если согласиться с локализацией В.С.Борзаковского, находилась
достаточно далеко от границы Торжка с Тверью. Местонахождение же села Теребина,
видимо, определено В.С.Борзаковским правильно. Он помещал его на р.Теребинке,
правом притоке Кавы, которая, в свою очередь, является левым притоком Тверцы [57]. Но от внимания В.С.Борзаковского ускользнуло более
раннее упоминание Теребина. В летописях под 1389 г . рассказывается о
ссоре с великим князем Василием Дмитриевичем серпуховского князя Владимира
Андреевича. Последний, по словам летописи, отъехал в Торжок «и тамо пребысть
нЪколико врЪмя въ ТеребЪньскомъ, дондеже умиришася» [58].
Оказывается, Теребино — Теребенское было новоторжским и в XIV в. Его локализация
показывает, что новоторжские земли отстояли всего на 21 км к северо-западу от
самой Твери.
Характеризуя границу Твери с Торжком, В.С.Борзаковский
обратил внимание на одно известие, помещенное в Никоновской и Тверской
летописях [59]. Под 1373 г . в первой из них
говорится, что великий князь Михаил Александрович Тверской укреплял Тверь валом
и рвом «Тферьскими волостми и Новотръжскими» [60].
В Тверской летописи то же известие читается несколько иначе: вместо
«Новотръжскими» там стоит «Новоторжскыми губами» [61].
Комментируя текст Тверской летописи, В.С.Борзаковский пришел к заключению, что
в данном случае не могло быть речи о временном захвате новгородской
новоторжской территории тверским князем. А если так, то упоминание летописью
новоторжских губ, население которых участвовало в укреплении Твери, следует
расценивать как показатель постоянного совместного владения территорией Торжка
Новгородом и Тверью [62]. Иными словами, действительная
граница Тверского княжества в XIV в. должна была подходить гораздо ближе к
Торжку, чем это рисуется по рассмотренным выше летописным и актовым материалам
XIV—XV вв.
Указание В.С.Борзаковского на известие 1373 г . [63]
весьма ценно, но его интерпретация этого сообщения вызывает возражения. Хотя
ссылка на новоторжские губы древняя [64], именно само
разграничение тверских волостей и новоторжских губ говорит об особом административном
положении последних. В древнейшем Рогожском летописце это разграничение
подчеркнуто даже резче, чем в других текстах: великий князь Михаил
Александрович укреплял Тверь «ТфЪрьскыми волостьми да Новоторжьскыми губами
тЪми людми» [65]. Выражения «тЪми людми» нет ни в
Никоновской, ни в Тверской летописях. Поскольку вся запись 1373 г . принадлежит
тверскому летописцу [66], очевидно, что пояснение «тЪми людми»
не может относиться к жителям тверских волостей (для летописца они были бы
«свои» или «сии» люди), оно должно прилагаться только к населению новоторжских
губ. И если, как думал В.С.Борзаковский, эти губы находились под постоянным
управлением тверского великого князя, то почему в известии 1373 г . указывается их
административный центр Торжок, к Твери вовсе не относящийся? Необычность
сообщения о новоторжских губах оттеняется еще и тем, что при регистрации
аналогичных случаев укрепления города Твери местные летописцы не упоминают,
силами каких волостей возводились эти укрепления [67].
Думается, что указание на новоторжские губы под 1373 г . вызвано особыми
обстоятельствами, характерными только для того момента. В.С.Борзаковский,
предлагая свое объяснение известия 1373 г ., исходил из априорной мысли о том, что
все новоторжские земли должны были непременно принадлежать Новгороду Великому.
Поскольку летописи не содержат намеков на захват Тверью у Новгорода каких-либо
порубежных земель ни в 1373, ни в предшествовавшем году, В.С.Борзаковский и
полагал, что речь должна идти о таких новоторжских территориях, которые
находились под постоянным управлением тверского князя. Однако Новый Торг
принадлежал не только Новгороду, но и великому князю Владимирскому. А этот
титул с 1371 г .
одновременно носили враждовавшие между собой Михаил Александрович Тверской и
Дмитрий Иванович Московский [68]. Только 16 января 1374 г . между соперниками
был заключен мир, причем Михаил Александрович «со княжениа съ великаго
намЪстникы свои свелъ» [69]. Последнее означает, что вплоть до
начала 1374 г .
тверской князь контролировал какую-то часть великокняжеской территории, и
естественнее всего, — соседней со своим княжеством. Такой соседней территорией
была, в частности, великокняжеская половина Торжка. Поэтому есть веские
основания полагать, что именно великокняжеская часть Торжка разумелась
летописцем под новоторжскими губами в статье 1373 г .
Сказанное находит известное подтверждение в тексте
московско-тверского соглашения 1375
г . Согласно этому договору, Михаил Александрович
Тверской должен был «в Рокитну... ся не въступати, что потягло ко княженыо к
великому» [70]. Документ прямо свидетельствует, что к
сентябрю 1375 г .
[71] в руках тверского князя оставалась какая-то часть
владимирской великокняжеской территории. Где же находилась Рокитна? Издатели и
комментаторы договорной грамоты 1375
г ., в том числе последний ее публикатор Л.В.Черепнин, не
смогли определить местоположения этой волости [72].
Однако оно выясняется. Судя по названию, речь идет о волости Рокитне, в XVI в.
входившей в состав Тверского уезда и зафиксированной в Тверской писцовой книге 1548 г . [73]
Среди перечисленных в писцовом описании населенных пунктов волости Рокитны
некоторые сохранились до XIX в. и отыскиваются на карте. Это деревни Мухино,
Горки, Кожухово [74], расположенные по левому берегу
р.Кавы, в ее среднем течении [75]. Ниже этих деревень в
Каву впадала р.Теребинка, на которой стояло упоминавшееся выше новоторжское
с.Теребенское. Очевидно, что более отдаленная в XIV в. от тверских земель, чем
Теребенское, волость Рокитна была новоторжской великокняжеской волостью.
Принадлежность ее тверскому князю в 1375 г ., по меньшей мере косвенно,
свидетельствует о том, что около указанного времени великий князь Михаил сумел
распространить свою власть на владимирскую часть Торжка. Очевидно, по договору
16 января 1374 г .
эти губы вернулись под управление Дмитрия Московского, а потому они больше не
фигурируют в источниках как принадлежащие тверским князьям [76].
Из сказанного следует, что прослеживаемый в ряде точек рубеж Твери с Торжком в
XIV в. не подвергался значительным колебаниям. Власть Михаила Александровича
Тверского над новоторжскими губами носила эпизодический характер и не привела к
расширению тверской территории на западе.
На севере Тверское княжество граничило с другой
новгородской волостью — Бежецком, или Бежецким Верхом. О соседстве тверских и
бежецких земель свидетельствуют уже цитировавшаяся запись 1312 г . Новгородской I
летописи старшего извода [77] и статья о старом
рубеже в тексте новгородско-тверского соглашения 1374 г . [78]
Тверские князья с раннего времени стремились расширить свои
владения за счет бежецких земель. Уже в договорной грамоте 1267 г . (Новгорода с великим
князем Владимирским Ярославом Ярославичем Тверским [79]
содержатся два симптоматичных конкретных штриха в общих формулах договоров: «А
въ Бежицахъ, княже, тобе, ни твоеи княгыни, ни твоимъ бояромъ, ни твоимъ
дворяномъ селъ не дьржати, ни купити, ни даромъ приимати, и по всей волости
Новгородьскои», «А из Бежиць, княже, людии не выводити въ свою землю, ни изъ
иной волости новгородьскои, ни грамотъ имъ даяти, ни закладниковъ приимати, ни
княгыни твоеи, ни бояромъ твоимъ, ни дворяномъ твоимъ: ни смерда, ни купцины» [80]. Введение в формулы общего характера договорных грамот
конкретного указания на Бежицы в тексте соглашения 1267 г . можно объяснить
только тем, что во время, предшествовавшее составлению договора, в Бежецком
Верхе как раз и имели место покупки сел княгиней и боярами Ярослава Ярославича,
а также вывод людей. В последнем случае речь шла о выводе людей не во
Владимирское великое княжество, хотя договор и был составлен с великим князем,
а в Тверское. Выражение «въ свою землю» ясно свидетельствует о том, что в
тексте соглашения имелась в виду именно тверская «земля» Ярослава Ярославича.
Неизвестно, было ли выполнено князем Ярославом это новгородское требование [81], но несомненным остается факт попыток расширения в 60-х
годах XIII в. тверской территории за счет новгородской Бежецкой волости.
К сожалению, установить, где точно пролегала граница
Тверского княжества с Бежецким Верхом, не представляется возможным. Пытавшийся
наметить бежецко-тверские рубежи В.С.Борзаковский вынужден был привлечь для
этого материал XVI в. В одной грамоте 1561 г . он нашел указания на села Пузырево и
Киасова Гора, входившие в состав Бежецкого уезда. Локализовав их, исследователь
пришел к выводу о том, что граница Твери с Бежецком проходила где-то южнее
с.Киасова Гора и что верховья р.Кашинки Твери не принадлежали [82].
Более определенных сведений об этой границе В.С.Борзаковский дать не смог. Да и
в настоящее время из-за недостатка источников сделать это очень трудно. Тем не
менее следует указать на некоторые данные, позволяющие судить о старом
бежецко-тверском рубеже. Под 1378
г . в некоторых летописях помещен рассказ о княгине
Василисе, жене нижегородского князя Андрея Константиновича. Василиса родилась в
1331 г .
Была она «отъ града ТфЪри, рода славна, велика, отъ отца, именуемаго Ивана
Киасовьскаго...» [83]. Прозвище отца Василисы говорит,
скорее всего, о том, что он был владельцем или наместником Киасова (Киасовой
Горы) [84]. Если так, то в 30-е годы XIV в.
территория Тверского княжества включала и этот район. Позднее, возможно в
результате войны 1375 г .,
Киасова Гора отошла к Бежецку. Имеют значение и упоминания тверского рубежа в
писцовой книге второй половины Бежецкой пятины писцов Ф.М.Ласкирева и подьячего
И.Иванова 1582/83 г., опубликованные в свое время К.А.Неволиным. Там упомянут
погост Никольский, слободка в Стучеве на р.Медведице на тверском рубеже и
Максимов починок на р.Тросне, также на тверском рубеже [85].
Как установил К.А.Неволин, р.Троена является правым притоком р.Медведицы. При
слиянии Троены и Медведицы стояло с.Никольское — центр одноименного погоста [86]. Очевидно, по правым берегам Троены и Медведицы и
проходил тверской рубеж. Сюда он тянулся от с.Теребенского — Теребина,
упоминаемого в 1389 г .
Река Медведица образует довольно естественную границу, и можно думать, что
далее на восток бежецко-тверской рубеж шел, придерживаясь этой реки. Впрочем,
он, видимо, отклонялся от Медведицы на север. Во всяком случае, Кочемльская
волость (ее центр — с.Кочемль, или Кочемли, — отстоит примерно на 15 км по прямой от левого
берега Медведицы) в начале XVI в. относилась к Кашинскому уезду [87].
В то же время стоявшее на левом берегу Медведицы ниже с.Никольского с.Замытье в
конце XVI в. входило в состав Бежецкого Верха [88].
Возможно поэтому, что только земли по обе стороны нижнего течения Медведицы
были в руках тверских князей. Им же принадлежала территория среднего и нижнего
течения р.Кашинки.
Восточная граница Тверского княжества может быть намечена на основании упоминаний в документах XV — начала XVI в. кашинского рубежа и локализации некоторых населенных пунктов.
В XV в. Троице-Сергиев монастырь завладел землями в Угличе. Центром его владений там к середине XV в. стало с.Прилуки [89], Земли этого села лежали как по левому [90], так и по правому берегу Волги [91]. Причем расположение прилуцких земель близ р.Пукши [92] — левого притока Волги — позволяет отождествлять с.Прилуки XV в. с современным селом того же названия, стоящим на левом берегу Волги при впадении в нее р.Томоришки, недалеко от устья р.Пукши [93]. Как явствует из разъезжей грамоты 1505/06 г., зафиксировавшей границу между землями с.Прилуки и с. Никольского Улеменского [94] на правом берегу Волги, межа этих двух сел кончалась «по рубеж по Кашинской» [95]. Следовательно, с.Прилуки было пограничным, к западу от него начинались тверские (кашинские) земли.
Уточнить углицко-тверскую границу в данном районе позволяет ряд актов XV — начала XVI в. Между 1410 и 1427 гг. Троице-Сергиев монастырь приобрел у И.Ф.Карцева сначала землю его с.Михайловского «по рубеж», а затем и само Михайловское с пустошью Лодышкинскою «за рубежом» [96]. Из жалованной грамоты углицкого князя Андрея Васильевича Большого конца 60-х — начала 70-х годов XV в. властям Троице-Сергиева монастыря становится ясным, что Михайловское, а также монастырские деревни Першино, Захеино и Пестово, крестьяне которых ездили «на Углеч торговати», находились «в Кашинском уезде» [97]. Следовательно, под «рубежом» купчих 1410—1427 гг. нужно понимать углицко-кашинский (тверской) рубеж [98]. Этот рубеж на левом берегу Волги проходил восточнее д.Захеино, которая по сходству названия и расположению близ углицко-кашинской границы отождествляется с позднейшей деревней Захеево, стоявшей на левом берегу р.Рубежки [99]. Возможно, что древняя углицко-тверская граница шла по р.Томоришке, на левом берегу которой стояло с.Прилуки. Во всяком случае, она проходила несколько восточное современной границы в этом районе Калининской и Ярославской областей, сложившейся, по-видимому, в начале XVI в.
На правом берегу Волги граница Твери с Угличем проходила к востоку от деревни, а позднее сельца, Пестово, стоявшей близ впадения в Волгу р.Неропажи [100]. Тверская территория включала здесь в себя земли позднейшей д.Прокшиной, находившейся восточнее Пестово и в начале XVI в. принадлежавшей калязинскому (тверскому) Троицкому Макарьеву монастырю [101]. Далее по Волге несколько ниже Прокшиной лежали уже бесспорно углицкие земли, относившиеся к с.Прилуцкому. По-видимому, рубежом между тверскими и углицкими владениями тут служила р.Максимовка — правый приток Волги [102].
Определение древней границы Твери с Угличем в районе Волги
позволяет высказать некоторые соображения о местоположении упоминаемого в
некоторых летописях загадочного Святославля Поля. Сообщая о поездке в Орду в 1339 г . тверского великого
князя Александра Михайловича, летописи указывают, что князя провожали епископ и
княгиня с детьми «об оноу стороноу оусть Кашин(ки) до святаго Спаса» [103]. Здесь после торжественного молебна епископ, жена и дети
расстались с Александром. Очевидно, речь идет о церкви или монастыре, стоявших
при впадении р.Кашинки в Волгу, Для тверского летописца, писавшего в княжеском
тереме или во владычном Спасском соборе, то была «оноя», другая, левая сторона
Волги. Далее тверской книжник рассказывает, что князь Александр «поиде въ
насадъ» и что брат Александра Василий со своими боярами и слугами «проводиша и
до Святославля Поля», причем плаванию мешал сильный встречный ветер [104]. В.С.Борзаковский, комментируя данное место летописи,
полагал, что Святославле Поле находилось на Волге, недалеко от Кашина и где-то
на восточной границе Тверского княжества [105].
Определение исследователя представляется бесспорным, хотя и несколько
расплывчатым. Из летописного текста становится ясным, что в Орду тверской князь
отправился по Волге. Из Твери он прошел тем водным путем на Восток, которым
много позднее плыли его внук тверской великий князь Иван Михайлович [106] и их знаменитый соотечественник Афанасий Никитин.
Очевидно, что Святославле Поле лежало на Волге ниже устья р.Кашинки. Трудные
условия плавания (по свидетельству летописца, встречный ветер, несмотря на
усилия гребцов, отбрасывал назад корабль Александра) едва ли делали возможными
долгие проводы тверского князя. По-видимому, Святославле Поле находилось
сравнительно недалеко от впадения в Волгу Кашинки и, как думал
В.С.Борзаковский, на территории Тверского княжества. Однако более поздние
материалы никакого Святославля Поля в этом районе не фиксируют. В жалованных
грамотах 60-х годов XV в. последнего независимого тверского великого князя
Михаила Борисовича Троице-Сергиеву монастырю о беспошлинном провозе монастырских
товаров по Волге упоминаются мытники «дубенские и кашинские, и скнятинские, и
жабенские» [107]. Речь идет о тверских мытах при впадении
в Волгу рек Дубны, Нерли Волжской, близ устья которой стоял Кснятин, Кашинки и
Жабны. Ниже жабенского мыта никаких более или менее известных тверских
поселений или застав у Волги не было. А если плыли вдоль левого берега Волги,
то таких пунктов не было уже после кашинского мыта [108].
Принимая во внимание, что в 1339 г . речной караван
Александра Тверского двигался вниз по Волге скорее всего вдоль ее правого
берега, где попутное течение было сильнее, а также то обстоятельство, что, судя
по более поздним материалам, ниже Жабенского устья на тверской земле никаких
крупных поселений не было, предположительно можно думать, что Святославлем
Полем назывался укрепленный городок при впадении р.Жабны в Волгу —
предшественник г.Калязина [109]. Если приведенные
соображения верны, то тверская граница с Углицким княжеством в XIV в. должна
была проходить где-то недалеко от Кашина и Святославля Поля, скорее всего там,
где в XV в. пролегал кашинско-углицкий рубеж [110].
Данные начала XVI в. позволяют наметить тверскую границу на
юг и юго-восток от правого берега Волги. Разъезжая грамота 1504 г . великого князя Ивана
III фиксирует рубеж кашинских и ростовских земель. Этот рубеж тянулся от
границы с Угличем с верховьев р.Суболки до р.Жабны, далее вниз по Жабне до
впадения в нее р.Растовца. Затем кашинско-ростовская граница шла по р.Растовцу,
переходила в лес, пересекала дорогу «от Заозерица в Жабну», достигала р.Инобажа
и упиралась в переяславский рубеж. С ростовской стороны к кашинской территории
подходили земли сел Старого Цилинского Васильевского и Курышинского, с
кашинской стороны к ростовской территории — земли с.Семендяевского и волости
Верхней Жабны. В конце разъезжей грамоты ее составители отметили, что «по сему
списку через тот рубеж из Ростова в Кашинские станы и волости не перешло
ничево, а из Кашина в Ростовские станы и волости не перешло ничево ж» [111]. Очевидно, рубеж был давним. Все перечисленные выше
географические ориентиры разъезжей 1504 г . отыскиваются на карте [112],
и становится очевидным, что ростовско-кашинский рубеж пролегал примерно там же,
где идет современная граница Калининской и Ярославской областей на отрезке:
верхнее течение р.Жабны — участок севернее с.Заозерья [113].
Что касается давности кашинско-ростовского рубежа, то можно утверждать, что
этот рубеж существовал и в период независимости Тверского княжества, по крайней
мере в последние годы его самостоятельного существования. Такой вывод можно
сделать на основании жалованной грамоты тверского великого князя Михаила
Борисовича, выданной в июле 1483
г . властям Троицкого монастыря в Калязине на заведение
слободки в верховьях Жабны. В грамоте упомянуты рубежи углицкий, курышинский и
заозерский [114], т.е. те самые рубежи, что и в разъезжей 1504 г . Вместе с тем из
грамоты становится очевидным, что волости Верхней Жабны в 80-х годах XV в. не
существовало, эта территория, входившая в состав просто Жабенской волости,
тогда еще только осваивалась. В таком случае следует думать, что в XIV в.
границы Твери с Ростовом в данном районе были не столь четкими, как позднее, и
проходили в безлюдных или малолюдных местах. Освоенная тверичами территория
пролегала западнее рубежа конца XV — начала XVI в. с Ростовом, ближе к Волге [115].
Из другой разъезжей грамоты 1504 г ., зафиксировавшей
размежевание дмитровских и кашинских владений князя Юрия Ивановича, второго
сына Ивана III, с великокняжескими радонежскими и переяславскими землями, можно
составить примерное представление о кашинском рубеже от р.Жабны на юго-запад до
р.Дубны. Он шел от верховьев р.Инобажа к верховьям р.Поимаши, далее вниз по
этой реке, через водораздел до р.Гнилой воды. На данном отрезке рубеж разделял
земли уже упоминавшегося с.Заозерица (Заозерья) и лес кашинской волости Жабны [116]. Далее межевание в общем направлении к югу от названных
мест шло таким образом, что уже не касалось кашинских земель. Лишь при
разграничении района среднего и нижнего течения правого притока Волги Дубны в
разъезжей грамоте вновь начинает упоминаться кашинская волость — на этот раз
Гостунская. У рек Кинелки и Кунемы Гостунская волость граничила с переяславской
Закубежской волостью [117], а далее на юго-запад в верховьях
рек Нушпалы и Тувалы — с переяславской волостью Серебож [118].
Граница Гостуни с Серебожем продолжалась до верховьев Вотри и далее по Вотре до
ее впадения в Дубну [119]. Следовательно, кашинские земли
(Гостунская волость) в начале XVI в. охватывали пространство между реками
Волгой, Дубной (в ее нижнем течении) и, очевидно, Хотчей. Необходимо
оговориться, что межевание 1504
г . кашинских, дмитровских и переяславских волостей шло
не всегда по старым рубежам. Текст разъезжей грамоты предусматривал казусы,
когда старые переяславские земли переходили к Дмитрову и Кашину, а старые
дмитровские и кашинские земли — к Переяславлю. В таких случаях граница шла не
по старым межам, а по рубежу, установленному межевщиками 1504 г . [120]
Отсюда становится понятным, что переносить все данные начала XVI в. на более
раннее время нельзя. Приходится ограничиваться общими указаниями на географию
отдельных кашинских волостей в начале XVI в. и лишь приблизительно и с большими
оговорками говорить о восточной границе Тверского княжества в XIV в. Впрочем,
как бы примерно ни проводить границу владений тверских князей в XIV в., можно
совершенно определенно утверждать, что она не достигала текущей с юга на север
р.Вьюлки, левого притока Нерли Волжской. Дело в том, что по р.Вьюлке лежала
переяславская волость Юлка (Юлоцкая), получившая свое наименование от этой реки
и упоминаемая уже во второй духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Донского [121]. Видимо, от углицкого рубежа до дубенского устья
тверская территория в XIV в. тянулась неширокой полосой в 15—25 км вдоль
правого берега Волги.
Как свидетельствуют материалы начала XVI в., граничивший с Гостунской волостью Дубенский стан Кашинского уезда был самой крайней кашинской территорией на юго-западе [122]. Стан лежал в низовьях рек Дубны и Сестры, простираясь вверх по Сестре до некоего Плоского ручья, видимо впадавшего в Сестру [123]. Далее на юго-запад начинались клинские волости.
В XIV в. Клин, несомненно, принадлежал Твери. Об этом,
прежде всего, свидетельствует летописная запись начала XV в. Описывая нашествие
на Русь ордынского темника Едигея в 1408 г ., летописец сообщает, что монголо-татары
«ТфЪрьскаго настолованиа дому святаго Спаса взяша волость Клиньскую» [124]. Из записи становится очевидным, что в тверской Клинской
волости были владения тверского епископа. В этой связи весьма важным представляется
известие Рогожского летописца под 1367 г . о том, что «рать Московьскаа и Волочане
такс извоевали ТфЪрьскыи волости на сей сторонЪ Волги и церковный волости
святаго Спаса...» [125]. «Сея» сторона Волги — это,
несомненно, правая сторона реки, поскольку именно данная сторона была «сей» для
летописца, писавшего в тверском кремле. Следовательно, в 1367 г . москвичами и
волочанами были повоеваны тверские земли, лежавшие в волжском правобережье.
Упоминание среди этих земель безымянных церковных волостей «святаго Спаса»,
т.е. епископской кафедры, имеет в виду и Клинскую волость, где, по
свидетельству 1408 г .,
были епископские села и деревни. Целый ряд владычных деревень, по всей
вероятности владыки тверского, на границе клинских станов и волостей с рузскими
(волоколамскими) и дмитровскими станами и волостями упоминается в начале XVI в.
[126] Таким образом, летописное сообщение 1367 г . следует расценивать
как косвенное свидетельство о принадлежности в 60-х годах XIV в. Клина Твери.
Есть еще одно такое же косвенное указание, но относящееся к
гораздо более раннему времени. Тверской летописец, описывая войну конца 1317 —
начала 1318 г .
Юрия Даниловича Московского с Михаилом Ярославичем Тверским, отметил, что Юрий
со своими союзниками из Дмитрова пришел в Клин и именно из Клина «почаша
воевати Тферскую волость» [127]. В свете приведенных
данных представляется несомненным, что Клин и Клинская волость (или волости)
были владением тверских князей на всем протяжении XIV в. Однако получить более
или менее определенное пространственное представление о клинской территории
можно лишь на основании сведений начала XVI в.
В 1504 г .
писцы великого князя Ивана III Константин Григорьевич Заболоцкий и дворцовый
дьяк Ушак размежевали великокняжеские клинские земли с переданными в удел сыну
Ивана III Юрию рузскими и дмитровскими землями. От кашинского рубежа граница
клинских станов и волостей шла вверх по Сестре, затем вверх по ее правому
притоку р.Лутосне. Клинские земли граничили здесь с дмитровским Каменским
станом и волостью Лутосной [128]. Далее граница от
Лутосны шла к верхнему течению Сестры и пересекала эту реку [129],
доходя до верховьев Мошницы. Река Мошница разделяла дмитровскую Лутосну и
клинские земли [130]. Затем рубеж шел к р.Хотишине,
которой относившиеся к Клину села и деревни отделялись от дмитровской волости
Берендеевы [131]. Далее клинские земли граничили с землями
дмитровской Кузьмодемьянской слободки и дмитровской же волости Ижвы [132]. От рубежа с Ижвой вниз по течению р.Локныша шел рубеж
клинских земель и рузского Локнышского, или Лохнышского, стана. Близ этой границы
стояло, в частности, с.Тархово, которое сохранилось и поныне. Клинская граница
шла севернее этого села [133]. Кончался
клинско-рузский рубеж у р.Малый Локнаш [134].
Описанная граница если и была древней, то не на всем своем протяжении. В частности, на участке от р.Хотишины до р.Черной рубеж явно подвергся изменениям, поскольку земли двух дмитровских деревень Масловы и Михалковы были отведены к Клину [135].
Дальнейшее протяжение тверской границы выявляется не столь
четко. Граница восстанавливается приблизительно на основании ряда летописных и
актовых свидетельств конца XV — начала XVI в. Так, летописи при описании похода
на Новгород Ивана III в 1477
г . упоминают тверское село Лотошино на дороге из
Волоколамска на Микулин и далее на Торжок [136].
Лотошино существует и в настоящее время. Его местонахождение было определено
еще В.С.Борзаковским [137].
В 1497 г .
великий князь Иван III менялся землями со своими племянниками волоцкими
князьями Федором и Иваном Борисовичами. Вместо их сел и деревень, разбросанных
в центральных уездах Русского государства, Иван III отдал им прилегавшие к
Волоколамску тверские волости Буйгород и Колпь [138].
К сожалению, составленная в том же 1497 г . разъезжая грамота фиксирует только
юго-западные, новые, границы отошедших к волоцким князьям тверских волостей и
не описывает старый рубеж, отделявший эти волости от владений Федора и Ивана.
Тем не менее по положению волости Буйгород на р.Буйгородке (примерно в 12 км к северо-востоку от
г.Волоколамска; земли центра волости — с.Буйгород, в XVI в. ставшего дворцовым,
лежали по берегам рек Сестры, Черной и Буйгородки [139])
и центра Колпинской волости — с.Белая Колпь (в 20 км на северо-запад от
г.Волоколамска; территория волости лежала по верхнему течению р.Лоби [140]) можно заключить, что тверская граница проходила в
непосредственной близости от этого новгородского города. Так, видимо, было и в
XIV в. Во всяком случае, летопись, описывая московско-тверское столкновение 1370 г . и отмечая, что
«почали Москвичи и Волочане воевати ТфЪрьскыя волости» [141],
сделала специальную оговорку о волочанах, которые «съ порубежныхъ мЪстъ такъ и
воевали» [142]. Оговорка свидетельствует о
непосредственных границах Твери с Волоколамском в XIV в.
От волости Колпь тверская граница тянулась далее на запад, к верхним течениям рек Держи и Шешмы, т.е. к волостям Хорвач (Погорелое городище) и Олешне, о которых речь шла ранее, при определении южного рубежа Тверского княжества.
Таким образом, территория Тверского княжества представляла собой в XIV в. нечто подобное эллипсу, вытянутому в направлении с северо-востока на юго-запад, примерно от Кашина до Зубцова. Стержнем этой территории была Волга, пересекавшая княжество с юго-запада на северо-восток. Общая площадь Тверского княжества составляла примерно 21,1 тыс. кв.км.
Помимо основной территории княжества, в руках тверских князей были владения и за ее пределами. Это могли быть земли отдельных сел, слобод и даже, по-видимому, волостей. Происхождение таких владений было двояким. С одной стороны, они могли появиться в результате «купли»: покупки тверского великого князя, других лиц тверского княжеского дома, тверских бояр и княжеских слуг в чужих княжествах и землях. С другой стороны, при поступлении на службу к тверским князьям бояр из других княжеств отчины последних должны были оставаться за ними, а потому тверские князья получали права «вступаться» в эти отчины. Впрочем, точно такие же права в отношении тверской территории могли появиться у князей других княжеств в случае перехода к ним на службу тверских бояр.
О существовании владений тверских князей за пределами
собственно Тверского княжества указывают договоры, заключенные этими князьями с
Новгородом Великим и Московским (точнее, Московским и Владимирским) великим
княжеством. Так, уже в докончальной грамоте Михаила Ярославича Тверского с
Новгородом Великим, составленной в конце 1296 — начале 1297 г ., содержится статья о
тверских селах на новгородской территории: «А што будеть моихъ селъ в
Новъгородьскои волости или моихъ слугъ, тому буди судъ безъ перевода» [143]. Более конкретные данные сохранил текст другого договора
Михаила Ярославича, заключенного с великим князем Владимирским Юрием
Даниловичем Московским и Новгородом Великим в начале 1318 г ., но не зимой 1318/19
г., как полагали издатели «Грамот Великого Новгорода и Пскова» [144].
В этом договоре, дошедшем, к сожалению, в дефектном состоянии, есть следующая
статья: «А что в... [кн]ягыни покупила села въ Волог[дЪ] и въ БЪжицко|и
волости], имати еи куны у истьцевъ, [а земля] святой Софии, такоже [и] дЪтемъ
его, и княгыни его, и б[ояромъ] его въ все княжень[е Ми]хаилово, знають своего
[истьца], а земля бес кунъ...» [145]. Из приведенной
цитаты становится очевидным, что тверские князья и бояре владели селами не
только в соседнем с Тверским княжеством Бежецком Верхе, но и в отдаленной
Вологде, причем владели длительное время, на протяжении «всего княженья
Михайлова». Впрочем, приведенные тексты новгородско-тверских и московско-тверских
договоров конца XIII—XIV в. одновременно свидетельствуют, что тверским князьям
запрещалось иметь владения вне их отчины. Хотя, как можно догадываться, эти
запреты часто нарушались, но они столь же систематически и возобновлялись.
Очевидно, что Новгород и великие князья Северо-Восточной Руси стремились
полностью контролировать подвластные им земли, не допуская появления на них
чужих владений. Это было одним из проявлений процесса консолидации территорий
крупных государственных образовали Восточной Европы в послемонгольский период [146].
В целом, подводя итог рассмотрению границ Тверского княжества в XIV в., следует констатировать, что, несмотря на некоторые изменения (расширение к концу века за счет ржевских земель, возможную потерю некоторых земель по соседству с Бежецком, в частности Киасовой Горы), границы эти, по-видимому, оставались стабильными. Во всяком случае, Тверское княжество сохранило в XIV в. в своем составе все принадлежавшие ему значительные центры. Становится очевидным, что периоды усиления и упадка политической роли тверских князей на протяжении XIV столетия не были обусловлены значительным расширением или сужением государственных границ княжества. На примере Тверского княжества обнаруживается неприемлемость мысли М.К.Любавского, механически принимавшего увеличение подвластной князьям территории за рост материальной основы укрепления их власти [147]. Если ставить вопрос о материальной обусловленности политических успехов тверских князей, то ответ на него приходится искать не в приумножении их земель, а, по-видимому, в возрастании феодально-зависимого населения княжества и усилении степени его эксплуатации. По всей вероятности, именно эти факторы вызвали начавшийся в XIV в. процесс феодального дробления государственной территории Тверского княжества и до известных пор способствовали его развитию. А положение Тверского княжества на волжском пути во многом определило географию местных уделов.
1.
ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.34, 35, 93, под 6796,
6805 и 6878 гг.; СПб., 1863, т.15, стб.407, под 6805 г .
2. ДДГ, № 9, 15; АСВР, т.3, № 116; ГВН и П, № 12, 13, 17, 18.
3.
Насонов А.Н. О тверском летописном материале в рукописях
XVII века. - В кн.: Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958, с.26-40;
Кучкин В.А. О тверском летописном материале в составе двух рукописных
сборников. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1961, вып.9, с.341-349;
Насонов А.Н. Летописные памятники Тверского княжества. - Изв. АН СССР.
Отделение гуманитарных наук, 1930, № 9, 10; Кучкин В.А. Тверской источник
Владимирского Полихрона. - В кн.: Хроники и летописи. 1976 г . М., 1976, с.102-112.
4. Шахматов А.А. Отзыв об издании Н.П.Лихачева «Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче». СПб., 1909, с.4.
5.
Памятники древнерусского канонического права. Часть первая.
- РИБ. 2-е изд. СПб., 1908, т.6, прил. № 24, стб.135-140. Послание сохранилось
в современном ему греческом переводе. Оно не имеет точной даты. Время написания
определяется на основании следующих данных. Послание не могло быть написано
позднее августа 1371 г .,
поскольку оно цитируется в грамоте патриарха Филофея митрополиту Киевскому и
всея Руси Алексею, а грамота точно датирована августом 1371 г . (Там же,
стб.145-148, 150). Обращаясь к Филофею, Ольгерд просил поставить особого
митрополита на «Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород»
(Там же, стб.140). Просьба была, вероятно, продиктована прецедентом. В мае 1371 г . по требованию
польского короля Казимира Великого в Константинополе был поставлен особый
митрополит на западнорусские земли - Галич, Холм, Туров, Перемышль и Владимир
(Там же, № 29, стб.129-134). Отсюда дата послания Ольгерда Филофею - лето 1371 г .
6. Там же, № 24, стб.136,138.
7. Родословные книги. - Временник МОИДР, 1851, кн.10, с.106, 107; Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с.363.
8. Квашнин-Самарин Н.Д. Исследование об истории княжеств Ржевского и Фоминского. Тверь, 1887, с.22.
9. Там же, с.29-30. С удельным княжеским центром Березуеском, или Березуем, XIV в. отождествляется известный по писцовым описаниям погост Молодой Березуй. См.: Квашнин-Самарин Н.Д. О зубцовских и ржевских переписных книгах как источнике к изучению местной истории. Тверь, 1851, с.3-5; Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского Статута. М., 1892, с.285.
10. АФЗ и X, ч.2, № 149, с.145. В «Указателе географических названий» к этому изданию Хлепень неправильно определен как местность.
11. Квашнин-Самарин Н.Д. Исследования об истории княжеств Ржевского и Фоминского, с.27, 29.
12. Рикман Э.А. Обследование городов Тверского княжества. - КСИИМК, М., 1951, вып.41, с.72.
13. Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб., 1876, с.43-48.
14. Успенский В.П. Литовские пограничные городки: Селук, Горышин и другие. Тверь, 1892, с.17; Карта Калининской области. М., 1958 (Далее ссылки на эту карту).
15. Там же.
16. Там же.
17. Там же.
18. Карта Калининской области.
19.
Писцовые описания XVII в. фиксируют волость Осечен Большой
в левой князь-Федоровской половине Ржевского уезда и волость Осечен Пустой в
правой князь-Дмитровской половине Ржевского уезда (Успенский В.П. Указ. соч.,
с.13-14). Деление Ржевы на две половины, правую и левую, соответственно берегам
Волги произошло после смерти в 1494
г . князя Бориса Волоцкого (ср.: ДДГ, № 81, с.321; № 88,
с.352). Вероятно, во времена Бориса Волоцкого, а может быть и много раньше,
осеченские земли по берегам Волги составляли одно административное целое.
20. Успенский В.П. Указ. соч., с.13, 14.
21. НПЛ, с.347.
22.
ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.93, под 6878 г .; Рикман Э.А. Указ.
соч., с.74 и рис.20-1.
23. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.87. В Симеоновской летописи названия этих городов (или волостей) искажены. Вместо Хорвача и Родни, там фигурируют Ховра и Рове (ПСРЛ, СПб., 1913, т.18, с.107).
24. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.93.
25. Тверская губерния. Список населенных мест. СПб., 1862, с.157, № 4957; Борзаковский В.С. Указ. соч., с.31.
26.
Квашнин-Самарин Н.Д. Исследование об истории княжеств
Ржевского и Фоминского, с.34. Предложенная Н.Д.Квашниным-Самариным локализация
Хорвача в целом согласуется с положением волости Хорвач Тверского уезда первой
половины XVI в. Селения этой волости были расположены по рекам Шоше, Ржати,
Жабне, а села Дорожаево, Ошурково и Степурино отыскиваются на современной
карте. - ПКМГ. СПб., 1877, ч.1, отд.2, с.240-242, 235, 236, 103, 236, 233, 227,
232; Карта Калининской области; ЦГВИА, ВУА, № 19097, л .143, 144.
27. Рикман Э. А. Указ. соч., с.83-84 и рис.20-3.
28. ДДГ, № 89, с.361.
29.
ПСРЛ, т. 18, с.275, под 7000 г . сентябрьским.
30. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.29. Текст меновной см.: ДДГ, № 102, с.420-422. Села-Раково и Вахново упомянуты здесь на с.421.
31. АФЗ и X, ч.2, № 149.
32. Там же, с.145.
33. Там же, № 189.
34. В «Указателе географических названий» ко второй части АФЗ и Х Олешня ошибочно отмечена как «местность», правда со знаком вопроса, и помещена на р.Вазузе.
35.
ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1926-1928, т.1, стб.483, под 6793 г . мартовским. О дате
см.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963, с.115.
36. На основании сходства названий к такому же выводу приходил и В.С.Борзаковский. - Борзаковский В.С. Указ. соч., с.29.
37. О дате грамоты см.: Кучкин В.А. Роль Москвы в политическом развитии Северо-Восточной Руси конца XIII в. - В кн.: Новое о прошлом нашей страны М, 1968, с.59, 63.
38. ГВН и П, № 5, с.14
39. Ср.: Там же, № 3, с.12; № 6, с.15 (здесь Торжок - постоянно в числе новгородских волостей).
40. Там же, № 18, с.34; О дате договора см.: Кучкин В.А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой. - В кн.: Куликовская битва. М., 1980, с.89, примеч.284.
41.
НПЛ, с.94, под 6820 г . Эта часть статьи относится к 6820
мартовскому году. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.280. В НПЛ опечатка:
вместо правильного «заратнся» стоит «затратися». Ср.: Новгородская харатейная
летопись. М., 1964, с.320.
42.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.37, под 6825 г .
43. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев, с.363-364.
44. АСВР, т.1, № 2, с.26,
45. Там же, № 57.
46. Там же, № 433.
47. Там же, № 2, с.27. Печать новоторжского наместника была привешена к купчей в 20-х годах XV в. - Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X-XV вв. М., 1970, т.2, с.65.
48. АСВР, т.1, № 197, с.141.
49. Там же, № 186.
50. Там же, № 186,197,
51. Там же, № 319,418.
52. В 40-х годах XV в. земли с.Кунганова были расположены по обоим берегам р.Тьмы (АСВР, т.1, № 186; о том, что упомянутая здесь безымянная река - это р.Тьма, см.: Там же, с.631, 632, комментарии к актам № 571, 599).
53.
Для установления границы Твери с Торжком данными о селах
Медне и Кунганове воспользовался и В.С. Борзаковский (Борзаковский В.С. Указ.
соч., с.50-51). К сожалению, он привлек довольно поздний документ об этих
селах, относящийся примерно к 1473
г . (теперь эта грамота напечатана в АСВР, т.1, под №
418). Более ранние акты, в которых прямо говорится, что оба села стояли на
тверском рубеже, В.С. Борзаковскому остались неизвестны.
54. ПСРЛ. СПб., 1897, т.11, с.238.
55. АСВР, т.3, № 20.
56. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.51.
57. Там же.
58. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб. 157.
59. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.52-54.
60. ПСРЛ, т.11, с.19.
61. Там же, т.15, стб.433.
62. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.53.
63.
В.С.Борзаковский писал, что известие о новоторжских губах
относится к 1372 г .,
но в Никоновской и Тверской летописях это сообщение отнесено к лету 6881 г ., т.е. оно должно
датироваться 1373 г .
64.
Она есть в Рогожском летописце, причем все сообщение
Рогожского летописца об укреплении Твери в 1373 г . представляет собой
более древнюю редакцию, чем в Тверской или Никоновской летописях. См.: ПСРЛ,
т.15, вып.1, стб.104-105.
65. Там же, стб.104.
66. Она сохранилась только в Рогожском, Тверском и Никоновском сводах, т.е. в тех летописных памятниках, где было использовано тверское летописание. См.: Насонов А.Н. Летописные памятники Тверского княжества, с.731-732.
67. Ср.: ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.31, 91.
68. Там же, стб.95-96; Кучкин В.А. Русские княжества и земли..., с.81-83.
69.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.105, под 6881 г . О дате соглашения
см.: Водов В.А. Зарождение канцелярии московских великих князей (середина XIV
в. - 1425 г .).
- Ист. зап., 1979, вып.103, с.331, № 34.
70. ДДГ, № 9, с.26.
71.
Сам договор был заключен 1 сентября 1375 г . Ср. упоминание
«Семена дня» в тексте договора как времени его составления (Там же, с.27); ср.
также: ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.112.
72. ДДГ, с.553.
73. ПКМГ, ч.1, отд.2, с.288.
74. Там же.
75.
ЦГВИА, ВУА, № 19097, л .17.
76.
В качестве дополнительных доказательств принадлежности
Тверскому княжеству новоторжских земель В.С.Борзаковский сослался на разорение
монголо-татарскими войсками в 1327/28 г. не только Твери и тверских городов, но
и Новоторжской волости, а также на одно летописное свидетельство 1485 г ., согласно которому
тверской князь Михаил Борисович признавал право Ивана III на земли, которые тот
назовет своими и новоторжскими. Последний факт В.С.Борзаковский расценивал как
попытку Твери присвоить себе новоторжские земли, но попытку неудачную, так как
вмешалась Москва и потребовала эти земли себе (Борзаковский В.С. Указ. соч.,
с.53-54 и примеч.241 со ссылкой на Софийскую II летопись). Но приведенные
В.С.Борзаковским примеры не могут подтвердить его мысли. Новоторжские земли в
1327/28 г. подверглись нападению монголо-татар не потому, что они принадлежали
Твери, а потому, что ими владел Александр Тверской в качестве великого князя
Владимирского. И летописное известие 1485 г . надо понимать иначе. Речь в нем идет о
нейтралитете Твери при проведении территориально-административных реформ
московским правительством в пограничных с Тверью бывших новгородских волостях.
77. НПЛ, с.94.
78. ГВН и П, № 18, с.34; ср.: № 20, с.37.
79.
Там же, № 2. К 1267 г . относит эту грамоту Л.В.Черепнин
(Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.; Л., 1948, ч.1,
с.262). А.А.Зимин предлагает несколько сузить датировку грамоты: конец зимы
1266/67 г. (Памятники русского права. М., 1953, вып.2, с.150). В.Л.Янин
считает, что грамота поддается только широкой датировке - между 27 января 1265 г . и 18 февраля 1268 г . (Янин В.Л. Очерки комплексного
источниковедения. М., 1977, с.114). Думается, однако, что отнесение ее к 1267 г . вполне основательно.
80. ГВН и П, № 2, с.11. Ср. в более ранней договорной грамоте Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем: «А закладниковъ ти, княже, не приимати, [ни] твоеи княгыни, ни тво[и]мъ бояромъ; н[и с]е [лъ ти] держати по Новгородьскои волости, ни твоей княгыни, ни бояромъ твоимъ, ни твоимъ дворяномъ...» (Там же, № 1, с.9-10).
81. Следует отметить, что в самой поздней из сохранившихся договорных грамот Ярослава Ярославича с Новгородом конкретные указания на Бежецк в общих формулах остались. - ГВН и П, № 3, с.12.
82. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.52.
83. ПСРЛ, т.18, с.126.
84.
Явно «топонимическое» прозвище Ивана, очевидно одного из
известных тверских бояр, заставляет сопоставлять это прозвище именно с Киасовой
(Кесовой) Горой, самым крупным поселением с подобным названием на территории
Твери и прилежащих к ней землях. В источниках XV в. позднейшая Кесова Гора
называется Киасово (ПСРЛ. М.; Л., 1962, т.27, с.272, 346, под 6950 г ., Лихачев Н.П. Инока
Фомы Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче. - В
кн.: Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1908, вып.168, с.54);
ср.: ПКМГ, ч.1, отд.2, с.219.
85. Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке. - В кн.: Записки имп. Русского географического общества. СПб., 1853, кн.8, прилож.12, с.355.
86. Там же, с.212 основного текста.
87.
13 июня 1504
г . сыном Ивана III Юрием была выдана кормленая грамота
на Кочемльскую волость (АСВР, т.3, № 185). Поскольку по духовной грамоте Ивана
III Юрий получил Кашин, следует признать, что в начале XVI в, Кочемльская
волость входила в состав Кашинского уезда. По данным 30- 70-х годов XVI в., она
уже, бесспорно, в Кашинском уезде (ЦГАДА, ф.1193, оп.1, кн.4, л.95, 130,
151-151об.).
88. Неволин К.А. Указ. соч., с.211, № 87.
89.
АСВР, т.1, № 115, с.92; № 155, с.115, № 254, с.183; № 365,
с.267. Издатели тома считают, что с.Прилуки первоначально называлось Удинским
(Там же, с.593, комментарий к акту № 29). Удинское как владение Троипе-Сергиева
монастыря в Угличе впервые упоминается в грамоте 1411 г . (Там же, № 29,
c.40).
90. Акты Русского государства 1505-1526 гг. М., 1975, № 30, с.37; № 203, с.206.
91. АСВР, т.1, № 254, с.183 (упомянуты левые притоки Волги реки Пукша и Корожечна «против земли монастырьския»); № 660, с.586-587 (упоминаемая здесь р.Красная - правый приток Волги. См.: ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6738),
92. Акты Русского государства 1505-1526 гг. М., 1975, № 30, с.37; № 203, с.206.
93. Карта Калининской области; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6735; Ярославская губерния. Список населенных мест. СПб., 1865, с.129, № 36/34.
94.
Современное с.Улейма, стоящее на р.Улейме примерно в 10 км к юго-востоку от
г.Углича. См.: Карта Калининской области; Ярославская губерния. Список
населенных мест, с.307, № 9125.
95. АСВР, т.1, № 660, с.588.
96. Там же, № 24, с.38; № 25, с.39.
97. Там же, № 364, с.267.
98. Издатели первого тома АСВР, напечатав в актах № 24 и 25 слово «рубеж» с маленькой буквы, тем не менее считают, что это название реки (Там же, с.593, комментарий к акту № 24 и с.730 - «Указатель географических названий»). Основанием для подобного заключения послужило, очевидно, как само местонахождение с.Михайловского близ углицко-кашинской границы, так и то, что р.Рубежка в более позднее время разделяла Кашинский и Углицкий уезды (Ср.: ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.5982; 6735). Но как показывает положение д.Захеиной (Захеевой), р.Рубежка ранее целиком принадлежала кашинской территории. Изменения произошли, вероятно, в начале XVI в., когда некоторые кашинские земли перешли в Углицкий уезд (Ср.: Акты Русского государства, № 31, с.97 - «что отошло ис Кашина в Углецкои...»). Поэтому под словом «рубеж» грамот Ns 24 и 25 в т.1 АСВР следует понимать, как обычно, границу.
99. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6735.
100. Там же, д.6738; АСВР, т.1, № 653, с.577 (с.Пестово Жабешжои волости Кашинского уезда).
101. Акты Русского государства, № 20, с.29; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6738.
102. Ср. карту С.Б.Веселовского с изображением границы Углицкого и Kaшинского уездов в XV-XVI вв. (Веселовский С.Б. Село и деревня в северо-восточной Руси XIV-XVI вв. М.; Л., 1936, вклейка между с.84-85). Границы станов показаны на карте С.Б. Веселовского неверно. Деревня Захеино должна была входить в Нерехотский стан Кашинского уезда; Пестово и Прокшино также были кашинскими селениями, причем о Пестово прямо известно, что оно относилось к Жабенской волости (АСВР, т.1, № 653, с.577). Неправильно определены также кашинский, углилкий и ростовский рубежи на правом берегу Волги.
103.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.49, под 6847 г . Тот же текст в
Тверской и Никоновской летописях.
104. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.49.
105. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.41.
106. ПСРЛ, т.15, стб.473. В тексте прямо сказано, что князь Иван «поиде въ Орду Волгою».
107. АСВР, т.1, № 295, 296, с.210.
108. В указной грамоте 1461-1485 гг. тверского великого князя Михаила Борисовича «на устье на Кашинское мытником» предписывалось не брать никаких пошлин с двух судов Троипе-Сергиева монастыря, идущих «к Прилуком» (АСВР, т.1, № 363). Иными словами, с.Прилуки, бывшее уже на углицкой территории, являюсь первым после кашинского мыта местом на левом берегу Волги, где была пристань.
109. В.С.Борзаковский убедительно показал, что место, где возник город Калязин, было заселено значительно раньше возникновения города. - Борзаковский В.С. Указ. соч, с.37-38.
110.
Название Святославле Поле и расположение этого поселения к
востоку от Кашина, вблизи кашинско-углицкой границы XV в., заставляют высказать
догадку, не было ли связано основание Святославля Поля с деятельностью
тверского (с 1271 по 1282 г .?)
князя Святослава Ярославича, враждовавшего с переяславским князем Дмитрием
Александровичем, а потому укреплявшего рубежи своего княжества (о вражде
Святослава с Дмитрием см.: НПЛ, с.322, 325, под 6781 и 6791 гг.; по данным XV
в., переяславско-тверской рубеж проходил вблизи Калязина. См : ДДГ, № 93,
с.372).
111. ДДГ, № 93, с.372.
112. См.: Карта Калининской области.
113. Там же.
114. АСВР, т.3, № 158, с.174.
115.
О позднем освоении земель по р.Жабне и соседних с ними см.
- Веселовский С.Б. Село и деревня..., с.84-85. Известна грамота 1450 г на д.Семендяево -
с.Семендяево разъезжей 1504 г .,
но эта грамота - явно позднейшая подделка (АСВР, т.3, № 178а, с.193-194; Зимин
А.А К изучению фальсификации актовых материалов в Русском государстве XVI-XVII
вв. - Труды МГПАИ. М., 1963, т.17, с.410-411. К аргументации А.А.Зимина надо
добавить, что в 1450 г .
московский князь не мог выдать грамоту на принадлежавшую Твери кашинскую
территорию).
116. ДДГ, № 94, с.377-378.
117. Там же, с.374-375.
118. Там же, с.374.
119. Там же.
120. Там же, с.378.
121. Там же, № 12, с.34. В «Указателе географических названий» к данному изданию Юлка ошибочно названа не волостью, а селом (Там же, с.561).
122. Так было и в первой половине XVII в. См.: Готъе Ю.В. Замосковный край в XVII веке. М., 1937, с.382.
123. ДДГ, № 96, с.404.
124.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.185; т.18, с.158-159 (тот же текст).
Факт этот глухо отмечен уже В.С.Борзаковским (Борзаковский В.С. Указ. соч.,
с.39). Сам В.С.Борзаковский, доказывая принадлежность Клина Твери, использовал
довольно позднее летописное известие 1492 г . (надо - 1491 г . - В.К.), сообщающее
об описании московскими писцами тверских земель. Среди этих земель значился и
Клин {Борзаковский В.С. Указ. соч., с.39).
125. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.84.
126. ДДГ, № 96, с.401-402, 403.
127. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.37.
128. ДДГ, № 96, с.404.
129. Там же.
130. Там же, с.403.
131. Там же, с.402-403.
132. Там же, с.402.
133. Там же, с.401.
134. Там же.
135. Там же, с.402-403.
136. ПСРЛ. М.; Л., 1949, т.25, с.311. Лотошино стояло в одном переходе от Волоколамска.
137. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.41.
138. ДДГ, № 85, с.342.
139. АФЗ и X, ч.2, № 178.
140. Там же, № 19,171.
141. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.92.
142. Там же, стб.93.
143. ГВН и П, № 4, с.14.
144.
Там же, № 13, с.25. Михаил Ярославич был казнен в Орде 22
ноября 1318 г .,
поэтому заключить договор зимой 1318/19 г. он никак не мог. О дате убийства
Михаила см.: Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974, с.225.
145. ГВН и П, № 13, с.25.
146.
Интересно отметить, что в договоре 1427 г . великого князя
Тверского Бориса Александровича с великим князем Литовским Витовтом запрещался
переход бояр на службу с отчиною. Витовт обязывался таких бояр «со очиною не прнимати».
Если же кто-либо из тверских бояр переходил в Литву, то он был «очины лишенъ, а
во очине его воленъ яз, князь велики Борисъ Александрович» (ДДГ, № 23, с.63). В
договоре же 1375 г .
между Тверью и Москвой общей нормой было сохранение за боярами, отъехавшими на
службу к другому князю, их отчин на территории покинутого княжества (Там же, №
9, с.27).
147. Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929, с.2.
|
|
|
|
* * *
Характеризуя внутриполитическое развитие Тверского
княжества после гибели в конце 1318
г . в Орде Михаила Ярославича Тверского, известный
исследователь русского средневековья А.Е.Пресняков писал: «То же значение,
какое имеет духовная Ивана Калиты для истории московских междукняжеских
отношений, принадлежало бы в истории Тверского княжества духовной грамоте князя
Михаила Ярославича, если бы она дошла до нас» [148].
Замечание А.Е.Преснякова вполне справедливо. Развивая его мысль, можно
утверждать, что историко-географические сведения утраченного завещания Михаила
Ярославича имели бы во многом принципиальное значение, поскольку в определенной
степени отразили бы объективный процесс хозяйственного развития Тверского
княжества, роста тех его городов и волостей, которые способны были стать
объектами эксплуатации отдельного княжеского аппарата власти.
Само известие о духовной Михаила Ярославича сохранилось
только в Повести о его убиении. В старшей редакции памятника сообщается, что
перед поездкой в Орду, примерно в июле-августе 1318 г ., будучи в
г.Владимире, тверской князь отпустил провожавших его старших сыновей Дмитрия и
Александра «во отечество свое, давъ имъ дарь (в других списках Повести
правильно стоит «рядъ». - В.К.}, написавъ им грамоту, раздели имъ отчину свою,
ти тако отпусти их» [149]. Свидетельство Повести о «грамоте»,
т.е. завещании, Михаила Ярославича не может быть заподозрено в недостоверности.
Сама Повесть была написана духовником тверского князя, и есть основания полагать,
что его подпись стояла под самим завещательным распоряжением Михаила Ярославича
[150]. Таким образом, указание на духовную грамоту князя
Михаила, скорее всего, принадлежит лицу, непосредственно участвовавшему в ее
оформлении. И хотя ссылка в Повести на содержание грамоты очень лаконична, из
нее можно извлечь определенные данные.
Во-первых, в грамоте была разделена отчина Михаила, т.е. собственно Тверское княжество, которое в Повести четко противопоставлялось великому княжеству Владимирскому (не следует забывать, что Михаил Ярославич долгое время был и великим князем Владимирским) и называлось «отчиной» или «отечеством» тверского князя [151]. Во-вторых, что представляется самым важным, отчина была поделена, причем, конечно, не только между Дмитрием и Александром, а между всеми наследниками Михаила Ярославича [152]. У князя Михаила было четыре сына (в порядке старшинства): Дмитрий, Александр, Константин и Василий [153]. Оставалась и жена - дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича Анна [154]. Но получила ли она по завещанию мужа какие-то отдельные, территориально единые волости или же села и волости на территории уделов ее сыновей, сказать трудно. Более вероятно последнее. Что касается сыновей, то по духовной отца они должны были иметь свои территориально обособленные части в Тверском княжестве.
Какие же именно части Тверской земли предназначались каждому из Михайловичей? Этот на первый взгляд простой вопрос на самом деле необычайно сложен и труден. Таким он оказывается из-за недостатка летописных и актовых свидетельств. Поэтому приводится поступать так, как в свое время предложил А.В.Экземплярский: судить об уделах Михайловичей по более поздним владениям их детей и внуков [155]. Такой прием чреват определенными опасностями: если сын или внук того или иного Михайловича имел земли, полученные не только по завещанию отца, но и приобретенные путем покупки или обмена, то все они окажутся приписанными к владениям его предка, что, конечно, будет неточно. Однако за неимением лучшего приходится воспользоваться предложенным А.В.Экземплярским методом, заранее допуская известную гипотетичность некоторых конечных выводов.
Правда, в отношении уделов двух сыновей Михаила Ярославича,
старшего Дмитрия и младшего Василия, такая оговорка не нужна. По смерти отца
Дмитрий Михайлович становится его преемником на тверском столе. Об этом говорит
и то, что Дмитрий возглавлял соединенные тверские полки, выступившие в 1321 г . против великого
князя Юрия Даниловича [156], и то, что в 1322 г . он получил ярлык на
великое княжение Владимирское [157], очевидно, как
старший по возрасту и положению среди тверских князей.
Относительно отчины Василия Михайловича прямое
свидетельство относится только к году его смерти: Василий скончался 24 июля 1368 г . в Кашине [158], из чего можно заключить, что Кашин был его уделом.
Косвенные свидетельства о принадлежности Кашина Василию Михайловичу содержатся
в летописной статье 1367 г .
Рогожского летописца [159], а также, что особенно важно, в
статье 1339 г .
того же источника [160]. Важно потому, что после смерти
своего брата Константина Михайловича в 1346 г . Василий в течение ряда лет с перерывами
занимал стол великого княжения Тверского [161] и мог
после уступок этого стола то своему племяннику Всеволоду Александровичу, то
брату последнего Михаилу Микулинскому выговорить себе права на Кашин. Но
свидетельство 1339 г .
делает очевидным тот факт, что Кашин был выделен Василию еще его отцом по
завещанию 1318 г .
Кашин и ранее, в период владельческой нерасчлененности Тверского княжества, был
важным административным пунктом. Он рисуется главным городом северо-восточной
тверской «страны» [162], со своими «мужами» [163]
и со своим «полком» [164], т.е. организацией местных феодалов.
Поэтому не случайно, что в конце второго десятилетия XIV в. Кашин превращается
в удельный центр.
Уделы двух средних сыновей Михаила Ярославича Александра и Константина определяются по владениям их потомков.
У Александра было шесть сыновей. Имели ли свои особые
владения старшие Лев и Федор, неизвестно. Лев умер, по-видимому, в детском
возрасте, а Федор был казнен по приказу хана Узбека в 1339 г . вместе с отцом и
потомства не оставил [165]. Четыре других сына Александра
Михайловича - Всеволод, Михаил, Владимир и Андрей - несомненно уделы имели [166]. Наиболее определенные сведения сохранились о владениях
второго из четырех названных братьев - Михаила Александровича.
Под 1363
г . в Рогожском летописце сообщается, что сидевший на
тверском великокняжеском столе Василий Кашинский «собралъ былъ рать къ Микулину
на своего братанича на князя на Михаила и опять распустиша» [167].
Несомненно, что объектом несостоявшегося похода дяди на племянника должен был
послужить центр владений последнего. Именно таким центром и был названный
летописью город Микулин. Он стоял на обоих берегах р. Шоши [168],
в ее среднем течении.
Дополнительные; правда более расплывчатые, данные об уделе
Михаила Александровича можно извлечь из летописного рассказа о событиях лета 1367 г . К тому времени от
морового поветрия в начале 1366
г . умерли все родные братья князя Михаила: Всеволод,
Андрей и Владимир [169]. Из них потомство оставил только
Всеволод [170]. Поэтому не исключено предположение, что
выморочные уделы Владимира и Андрея перешли к Михаилу. К нему же могли отойти и
некоторые волости или села его старшего брата. Сам Михаил, видимо в конце 1365 г ., стал великим князем
Тверским [171]. Следовательно, под его рукой оказалась и
великокняжеская территория Тверского княжества. Если к сказанному добавить, что
умерший в конце 1365 г .
двоюродный брат Михаила князь Семен Константинович «приказал» ему «отчины своея
удЪлъ и княгиню свою» [172], то окажется, что к лету 1367 г . Михаил Александрович
должен был обладать властью над весьма значительной территорией, явно
превышавшей размеры его Микулинского удела. Это обстоятельство и отметил автор
«Предисловия лЪтописца княжения Тферскаго», составивший настоящий панегирик
князю Михаилу. По его словам, Михаил Александрович «въсприа отчествие свое
градъ Тверскый, и тако милостию божиею бысть великый князь Тверскый и всеа
богомъ порученыа ему области Тверского настолования, пребываа въ многыхъ
временехъ, велику сый храбрость показа многу, и грады многы вземъ,
покоривыися любовию, а непокоривыа мечемъ (курсив мой. - В.К.)» [173]. Впрочем, на часть этой территории, именно удел князя
Семена Константиновича, заявили свои претензии старший брат последнего князь
Еремей Константинович и его дядя князь Василий Михайлович Кашинский. Произошло
это летом 1366 г .
[174] Между Михаилом Александровичем и названными князьями
назрел конфликт, разразившийся летом 1367 г . войной. С помощью московского князя
Дмитрия Ивановича Еремей Константинович и Василий Михайлович опустошили владения
Михаила Тверского: «извоевали ТфЪрьскыи волости на сеи сторонЪ Волги и
церковный волости святаго Спаса» [175]. На основании этого
свидетельства можно думать, что среди тверских волостей были повоеваны и
собственно удельные волости князя Михаила. Если так, то есть некоторые
основания предполагать, что его микулинские земли достигали правого берега
Волги.
О конкретных владениях старшего из четырех Александровичей
- Всеволода - источники сохранили еще более скудные указания, чем об уделе его
брата Михаила. Ранние сведения об этих владениях содержатся только в
Никоновской летописи. Под 1346
г . в ней сообщается, что «князю Констянтину Михайловичю
Тверскому бысть нелюбие съ княгинею съ Настасьею и со княземъ со Всеволодомъ
Александровичемъ, и начя имати бояре ихъ и слуги в серебрЪ за волости чрезъ
людцкую силу...» [176]. Далее рассказывается о том, как
князь Всеволод «того не могий тръпЪти», отъехал в Москву к великому князю
Симеону Гордому, как Константин отправился в Орду, как туда же из Москвы поехал
князь Всеволод. Константин в Орде скончался, а в Твери его брат кашинский князь
Василий Михайлович «ис Кашина присла данщиковъ своихъ во удЪлъ князя Всеволода
Александровичя въ Холмъ», взял дань и с нею также отправился в Орду. Между тем
Всеволод «Холмъский» получил от хана Джанибека ярлык на все Тверское княжение,
а узнав, что дядя Василий «взя дань на вотчинЪ его на Холму», оскорбился и,
встретив Василия у Бездежа, ограбил его. Тем не менее тот все-таки сумел
добраться до хана Джанибека и, в свою очередь, получить у него ярлык на главный
стол Тверского княжества [177]. Князья вернулись из
Орды в 1348 г .
В Твери сел Всеволод Александрович, но уже в следующем году он уступил великокняжеский
стол Василию Михайловичу [178]. В 1352 г . вражда между дядей и
племянником вспыхнула с новой силой. Василий Кашинский получил в Орде
подтверждение своих прав на Тверь и вновь начал бояр и слуг князя Всеволода
«тягостию данною оскорбляти» [179]. Так продолжалось,
по-видимому, довольно долго. И только в 1357 г . Всеволод Александрович решил жаловаться
митрополиту Алексею на притеснения дяди. Об этом говорит уже не только поздняя
Никоновская летопись, но и ранний Рогожский летописец [180].
Митрополит принял сторону князя Василия. Тогда Всеволод попытался уйти в Орду,
но наместники великого князя Ивана Ивановича Московского не пропустили его
через Переяславль. Всеволод был вынужден отъехать в Литву и уже оттуда
добираться до хана [181]. Но не бездействовал и Василий. В 1358 г . он послал своих
представителей в Орду с жалобами на племянника. И когда тот предстал перед
ханом, то хан без всякого разбора дела приказал схватить Всеволода и выдать его
дяде. Закованным привезли монголо-татары сына убитого ими Александра
Михайловича в Тверь, «и бышетъ отъ князя Василья князю Всеволоду томление
велико и бояромъ и слоугамъ продажа данная велика, тако же и чернымъ людемъ» [182]. Бурные события в Орде в следующем, 1359 г ., калейдоскопическая
смена там правителей, видимо, привели к тому, что великий князь Тверской
Василий Кашинский лишился прежней ханской поддержки. Во всяком случае, Всеволод
Александрович в том же 1359 г .
сумел уйти от Василия в Литву, очевидно надеясь с литовской помощью добиться
уступок от терявшего своих союзников и покровителей тверского князя [183]. И действительно, когда в 1360 г . Всеволод вернулся из
Литвы, Василий пошел на уступки. По словам летописи, Всеволод «взялъ миръ со
братьею, а князь Василеи трети ихъ очины отъступился и раздЪлишася волостьми» [184]. На этом закончился один из этапов борьбы Всеволода
Александровича с Василием Михайловичем, борьбы, начавшейся в последний год
жизни старшего брата Василия тверского великого князя Константина.
Перипетии то враждебных, то мирных отношений Всеволода со
своими дядьями важны для уяснения некоторых историко-географических моментов.
Казалось бы, указание составителей Никоновской летописи под 1346 г . на Холм как удел
князя Всеволода не оставляет сомнений ни в древнем происхождении этого
указания, ни в том, какой город являлся центром владений старшего из
наследников Александра Тверского. Поэтому не случайно заимствованное из
Никоновского свода определение Всеволода Александровича как князя Холмского
давно и прочно утвердилось в научной литературе [185].
Однако некоторые детали повествования Никоновской летописи о столкновениях
холмского князя с великими князьями тверскими наводят на размышления о степени
достоверности свидетельств этого источника.
В самом деле, при описании конфликта 1346 г . речь в Никоновской
летописи идет не только о Всеволоде, но и о его матери [186],
причем вдовствующая княгиня упоминается первой. Князь Константин «имал» их бояр
и слуг, т.е. не только бояр и слуг Всеволода, но по крайней мере еще и бояр и
слуг княгини Анастасии. Иными словами, Константин Тверской пытался
распоряжаться не только в уделе Всеволода, но и в уделе его матери. Впрочем,
такой вывод, верный со стороны формально-логической, будет не совсем справедлив
с точки зрения отражения реального развития событий той поры. Уже А.Е.Пресняков
обращал внимание на то, что «семья в.к. Александра осталась после его кончины
единой владетельной семьей под рукой вдовы-матери княгини Анастасии» [187] и что борьба Всеволода с дядьями — конфликт не отдельных
лиц, а столкновение «двух линий тверского княжеского дома» [188].
Действительно, вдова Александра Михайловича княгиня Анастасия и ее сын Всеволод
уже по своему положению старших в семье (второму, за Всеволодом, сыну
Александра и Анастасии, князю Михаилу, в 1346 г . было лишь 13 лет [189])
должны были руководить всей отчиной своего мужа и отца. Конфронтация с ними
Константина Михайловича означала посягательство великокняжеской власти на
территорию всего удела Александровичей. Отсюда следует, что противостоять
Константину, а позднее — Василию, должен был не один Всеволод Александрович,
как это казалось работавшим в XVI в. составителям Никоновской летописи и как
это можно понять из текста созданного ими свода, а вся семейная группа князей.
С последней точки зрения весьма показательно известие о примирении Всеволода с
Василием после возвращения первого из Литвы в 1360 г .
Как уже говорилось, летопись под этим годом сообщала, что Всеволод «взялъ миръ со братьею, а князь Василеи трети ихъ очины отъступился и раздЪлишася волостьми» [190]. Из всех исследователей наибольшее внимание приведенной фразе уделил А.Е.Пресняков. Слова «взялъ миръ со братьею» он понимал как заключение какого-то договора Всеволода со своими родными братьями; текст об отступлении князем Василием трети их отчины — как отказ тверского князя в пользу Александровичей от третьей части Тверского княжества — «доли их отца в общей тверской отчине»; слова о разделении волостями — как полюбовный раздел территории между сыновьями Александра Михайловича [191]. Думается, что А.Е.Пресняков вполне прав в интерпретации второй части фразы и его критика мнения В.С.Борзаковского и А.В.Экземплярского, понимавших под третью отчины треть города Твери, представляется обоснованной и справедливой. Из предложенного А.Е.Пресняковым объяснения данного места летописи вытекает, что тверской великий князь имел дело не с одним Всеволодом, а со всеми наследниками князя Александра, которым он пошел на уступки, окончательно признав за ними права на территорию удела их отца.
В том же ключе взаимоотношений Александровичей с князем
Василием должна быть интерпретирована и первая часть приведенной летописной
цитаты. Трактовка ее А.Е.Пресняковым вызывает сомнения. В самом деле, если
разделить мысль А.Е.Преснякова, то придется признать, что до своего ухода в
Литву в 1359 г .
Всеволод поссорился с братьями, о чем источники умалчивают. Между тем ясно, что
отъезд Всеволода в Литву был вызван притеснениями со стороны Василия
Кашинского, столь ярко проявившимися в 1358 г . А если ссора между сыновьями Александра
Михайловича действительно имела место, то при чем тут был тверской великий
князь, довольно неожиданно отказавшийся от притязаний на их треть тверской
отчины? Все эти или подобные логические неувязки чувствовал уже
В.С.Борзаковский, который предлагал видеть в «братьях» Всеволода летописного
текста не его родных, а его двоюродных братьев, т.е. сыновей Константина и
Василия Михайловичей [192]. Но такое толкование противоречит
терминологии источника.
Перечисленные трудности в расшифровке фразы о мире
Всеволода «со братьею» порождены, как представляется, формальным подходом
исследователей к тексту. Сообщение летописи под 1360 г . цельно в своей
основе и может быть правильно понято в свете сказанного ранее о борьбе
Всеволода как старшего из Александровичей с тверскими великими князьями.
Выражение «взялъ миръ со братьею» следует понимать не как примирение Всеволода
с Михаилом, Владимиром и Андреем, а как коллективный договор всех
Александровичей во главе с Всеволодом с занимавшим тверской стол Василием
Кашинским, который в результате соглашения отступился именно от их трети общей
тверской отчины [193].
В этой связи третья часть фразы: «раздЪлишася волостьми»,
имеет в виду, скорее, не раздел между братьями, как полагал А.Е.Пресняков, а
раздел между братьями, с одной стороны, и тверским великим князем — с другой. В
целом же летописный текст под 1360
г . свидетельствует о противоборстве тверского князя со
всей семейной группой Александровичей и посягательствах великокняжеской власти
на территорию их удела. Начало этому было положено в 1346 г . Поэтому сообщение
Никоновской летописи о посылке данщиков Василия Кашинского в 1346 г . лишь в удел одного
Всеволода с точным обозначением центра этого удела — Холм — явно дисгармонирует
с тем ходом борьбы возглавлявшейся Всеволодом коалиции его братьев с
Константином и Василием Михайловичами, который нашел свое отражение в том же
Никоновском своде. Если вспомнить о постоянном интересе, который проявляли
составители Никоновской летописи к княжеским родословным, то станет понятной
причина отмеченного противоречия. В 20—30 годы XVI в., когда создавалась
Никоновская летопись [194], жили потомки князя Всеволода
Александровича князья Холмские [195]. По-видимому,
прозвище потомков было перенесено на их родоначальника. Всеволод тоже стал
Холмским, а центром его удела — Холм. Во всяком случае, приходится подозревать
в недостоверности эти свидетельства статьи 1346 г . Никоновской
летописи. Поэтому основываться на них при определении территории удела князя
Всеволода было бы не совсем осторожно [196].
Тем не менее есть веские основания считать, что Всеволод
действительно владел Холмом. В 70-х годах XIV в. его сыновья имели уделы в
Тверском княжестве [197]. Князья, получившие прозвище
Холмских, были потомками старшего сына Всеволода Юрия. Как сообщает Тверской
сборник, Юрий жил «на прЪдели отца своего» [198].
Хотя этот князь враждовал с великим князем Тверским Иваном Михайловичем и терял
свои владения, но в 1411 г .
наступило примирение [199], и сын Юрия Дмитрий упоминается уже
как князь, обладавший самостоятельным уделом в Тверском княжестве, среди
«молодшей братии» тверского великого князя Бориса Александровича во втором
договоре последнего с великим князем Василием Васильевичем Московским [200]. Сыновья Дмитрия Даниил и Михаил фигурируют в источниках
XV в. уже с прозвищами Холмских [201]. Судя по этим
прозвищам, их отец также был Холмским. А поскольку он имел в Твери удел, и
притом, скорее всего, наследственный [202], можно утверждать,
что в числе владений Всеволода Александровича был город Холм.
Холм был локализован В.С.Борзаковским [203].
Определяющим моментом явилось упоминание в источниках XVI в. Холма вместе с
Новым городком, или Новым городищем [204]. Уже в духовной
грамоте Ивана Грозного 1572 г .
Новое городище названо Погорелым городищем [205].
Под последним наименованием это поселение известно и ныне. Местоположение его
было указано выше — на правом берегу р.Держи в ее среднем течении. Согласно
разысканиям В.С.Борзаковского, Холм — это, скорее всего, современное село
Красный Холм, стоящее примерно в 15
км к востоку от Погорелого городища близ верховьев
р.Шоши [206].
Помимо Холма, у Всеволода были и другие волости. Об этом
свидетельствует наличие удела у его второго, младшего сына Ивана. В конце жизни
дяди, тверского великого князя Михаила Александровича, князь Иван Всеволодович
в 1397 г .
покинул Тверское княжество и отъехал к московскому великому князю, но после
смерти Михаила Тверского вернулся зимой 1399/1400 г. на родину [207].
Через два года Иван умер, «а отчину свою приказа князю Александру
Ивановичю" [208]. Следовательно, по приезде в Тверь
Ивану была возвращена его отчина, но со смертью Ивана его наследственные
владения перешли к семье великого князя Ивана Михайловича, именно к сыну
последнего Александру. К сожалению, источники не сообщают, какие именно земли
завещал Иван Всеволодович своему двоюродному брату. Для установления этого
необходимо привлечь некоторые косвенные данные.
Уже А.В.Экземплярский отметил, что как раз после 1402 г ., когда Александр
Иванович получил отчину Ивана Всеволодовича, этот первенец тверского князя
«принимает довольно заметное участие» как в междоусобных столкновениях князей
тверского дома (всегда на стороне отца), так и в «политических сношениях с
Литвой» [209]. Очевидно, роль Александра во внутри- и
внешнеполитических делах Тверского княжества возросла именно потому, что он
стал правителем удела Ивана Всеволодовича [210].
Известны монеты, которые чеканил Александр Иванович, причем эти монеты
относятся к периоду до занятия Александром великокняжеского стола в Твери,
поскольку в содержащихся на них надписях Александр титулуется просто князем [211]. Монеты имеют и другую легенду: «денга городЪск[ая]» [212], из чего следует, что Александр был князем Городечским,
или Городецким. Очевидно, поселение Городеск или со сходным названием,
образованным от слова «город», и было центром той самой отчины Ивана
Всеволодовича, которая по его смерти отошла к князю Александру.
Где же была расположена эта отчина? Источники XIV—XVI вв. фиксируют на территории, которую занимало Тверское княжество, ряд топонимов с основой «город». С одним из них и следует отождествлять Городеск Александра и Ивана.
Этот Городеск не мог быть известным в XVI в. городом Городнем [213]. Во-первых, Городень, по данным начала XVI в., относился собственно к Твери, и можно думать, что так было и в первой четверти XV в., т.е. этот город был владением тверского великого князя. Во-вторых, в самом конце XIV в. Городень носил другое название — Вертязин и под ним был известен официальным тверским документам [214].
Не может быть сближен Городеск и с известным по завещанию
тверского великого князя Михаила Александровича Новым городком. В числе других
тверских городов Новый городок предназначался завещателем старшему сыну Ивану и
детям последнего Александру и Ивану [215]. Новый городок
упоминается в Никоновской летописи под 1412 г . как место предполагавшейся Иваном
Тверским ссылки Василия Михайловича Кашинского [216].
А в 1422 г .
тот же Иван Михайлович сослал в Новый городок новоторжского боярина Ивана
Кумгана и его сына Фому [217]. Полное тождество
названий, принадлежность указанных под 1412 и 1422 гг. в Никоновском своде
Новых городков тверскому великому князю свидетельствуют о том, что речь в
летописях идет об одном и том же Новом городке. В свое время В.С.Борзаковский
принимал этот Новый городок за город Старицу [218].
Однако содержание статьи 1412
г . Никоновской летописи указывает на иную географию
Нового городка.
Летом того года тверской князь Иван Михайлович велел схватить своего брата Василия Кашинского. Судя по контексту летописи, Василий был арестован в самой Твери. «За сторожи» кашинского князя отправили «на Новой городокъ». «И бывшиимъ имъ на ПереволоцЪ, и тамо соидоша съ коней, и князь преже всЪхъ погна на кони въ одномъ терликЪ и безъ киверя, и перебреде рЪку Тмаку и погнаше не дорогами». Сумев скрыться от опешившего конвоя, Василий Михайлович несколько дней хоронился у одного доброхота от разыскивавшей его стражи, а потом ушел в Москву [219]. Если бы Василия везли из Твери в Старицу, то всему кортежу незачем было бы переправляться через Тьмаку, правый приток Волги. Очевидно, кашинского князя направляли в иное место. Судя по маршруту, это был, скорее всего, тот самый Новый Городок (позднейшее Погорелое городище), который упоминается как административный центр в духовной Ивана III [220]. Таким образом, ни по названию, ни по своей владельческой принадлежности Городеск князя Александра не может быть отождествлен с Новым городком.
Нельзя видеть в Городеске и Городок на Волге, который
«нарядил» в 1366 г .
великий князь Михаил Александрович [221]. Последнее
обстоятельство исключает какие-либо отчинные права на этот город князя Ивана
Всеволодовича [222].
Остается еще один известный источникам Городок Тверского княжества. И Городок этот — позднейшая Старица. В летописных сводах XV — начала XVI в. в подавляющем большинстве случаев Старица называется именно Городком, иногда с пояснением: «на Волге», или со вторым определением: «Старица» [223]. Но Старица называлась также и Городцом [224]. Вариативность древнего наименования Старицы — Городок, Городец — позволяет сближать (по названию) с этим городом Городеск (Городок, Городец?), в котором чеканились монеты князя Александра Ивановича.
В пользу отождествления этих двух городов могут свидетельствовать и другие факты. Чеканка местной «денги городЪской» имела смысл в центре, где была развита торговля. Уже В.С.Борзаковский обратил внимание на упоминание Городка в литовско-тверских договорах XV в. Городок постоянно фигурирует в той статье литовско-тверских докончаний, в которой определяются места взимания пошлин с литовских торговцев в Тверском княжестве: «пошлины имати... во ТфЪри, в КашинЪ, в Городку, в ЗупцевЪ и по всему моему великому княженью по давному, а нового не примышляти» [225]. Два из четырех упомянутых здесь тверских города стояли на Волге, а Кашин — в низовьях р.Кашинки, близ Волги. По аналогии нужно думать, что и Городок стоял на Волге или около нее. А полное соответствие его названия древнейшему наименованию Старицы позволяет утверждать вслед за В.С.Борзаковским, что Городок литовско-тверских соглашений и есть Старица. Но благодаря договорам XV в. устанавливается, что Старица — один из давних торговых центров Тверского княжества. И это делает вполне понятной чеканку монеты в названном городе. К тому же большинство монет с надписью «денга городЪск[ая]» найдено именно в Старице [226]. С другой стороны, Городок-Старица не упоминается в завещании великого князя Тверского Михаила Александровича. Значит, в конце XIV в. она принадлежала или должна была принадлежать иной ветви тверского княжеского дома. Принимая во внимание изложенное выше, можно заключить, что Старица была удельным городом Ивана Всеволодовича, а еще раньше — его отца Всеволода Александровича.
Таким образом, идя от поздних фактов княжого владения в
Тверской земле к более ранним, следует считать уделом старшего из наследников
Александра Михайловича Тверского, Всеволода, Холм и Старицу, а уделом второго
из его сыновей-наследников, Михаила, — Микулин. Отсюда становится понятным, что
самому Александру по завещанию его отца был выделен юг Тверского княжества.
Можно догадываться, что центром его владений был г.Зубцов. Зубцов, несомненно,
древнее Старицы, Холма и Микулина. Известие 1285 г . о нападении Литвы на
Олешню рисует наличие у зубчан территориальной феодальной военной организации [227]. О давнем торговом значении Зубцова свидетельствуют
упоминавшиеся выше литовско-тверские договоры XV в. Все эти факты говорят за
то, что в начале XIV в. на юге Тверского княжества не было города значительнее
Зубцова. И если Михаилом Ярославичем своему второму сыну предназначались в удел
южные волости Тверского княжества, то всего естественнее видеть их центр в
Зубцове.
Зная, какие примерно территории входили в состав уделов трех сыновей Михаила Ярославича: Тверь — Дмитрия; Зубцов (?), Старица, Холм и Микулин — Александра и Кашин — Василия, можно довольно легко определить местоположение удела четвертого Михайловича — Константина. Он мог располагаться или к северо-западу от Твери, где, впрочем, до начала XV в. не было ни одного города, или к юго-востоку от столицы.
В научной литературе до самого последнего времени считалось, что уделом князя Константина был г.Дорогобуж. Дело в том, что в источниках последней трети XV в. упоминаются праправнуки князя Константина Михайловича князья Юрий и Осип (Иосиф) Андреевичи с прозвищем Дорогобужские [228]. Поскольку в те времена князья получали прозвища по месту своих владений, считалось, что Юрий и Осип владели Дорогобужем. Сам Дорогобуж признавался их отчиной, а первым его владельцем назывался родоначальник этой ветви тверских князей третий сын Михаила Ярославича, Константин.
В приведенной цепи логических умозаключений не все было гладко. Дело прежде всего в том, что никаким источникам г.Дорогобуж в Тверском княжестве неизвестен. Выход нашел Н.М.Карамзин. Он предложил видеть Дорогобуж в современном ему тверском селе Дорожеве [229]. Впоследствии выяснилось, что село называется Дорожаево, но мысль Н.М.Карамзина была воспринята последующими исследователями [230]. Тем не менее сближение названий Дорогобуж и Дорожаево представляется крайне сомнительным. У этих двух топонимов общие только четыре начальные буквы, и одно наименование не могло произойти от другого. К тому же с.Дорожаево, в первой половине XVI в. входившее в состав Хорвачского стана Тверского уезда и не являвшееся каким-либо административным центром, лежало близ р.Шоши [231]. Если здесь был удел Константина Михайловича, тогда становится непонятным, почему его территория так глубоко вклинивалась в земли брата Александра, перерезая естественный водный путь по р.Шоше между двумя городами Александрова удела — Холмом и Микулином.
Эти и другие противоречия в определении владений князя Константина
сравнительно недавно были удачно устранены Б.Н.Флорей. Он обратил внимание на
то, что князь Андрей Дмитриевич, отец упомянутых Юрия и Ocuna Дорогобужских, до
1440 г .
держал от литовского великого князя Дорогобуж, Мутишин и Великое поле [232]. Речь идет о смоленских волостях с центром в Дорогобуже [233]. Становится ясным, что прозвища Дорогобужские,
закрепленные за сыновьями князя Андрея Дмитриевича, своим возникновением
обязаны прозвищу их отца, полученному им в связи с держанием смоленского
Дорогобужа. Таким образом, вопрос о тверских владениях потомков Константина
Михайловича и его самого сделался открытым.
Ответ на него был предложен тем же Б.Н.Флорей. Основываясь на упоминании польским историком начала XVI в. Матвеем Меховским Клинского княжества в Тверской земле, исследователь лришел к мысли, что центром владений сыновей, внуков и правнуков князя Константина был Клин [234]. При этом он указал, что к 50-м годам XV в. Клинского княжества уже не было, поскольку в то время территорией Клина распоряжался великий князь Тверской Борис Александрович [235]. Следовательно, Клинское княжество существовало в более раннее время.
Думается, однако, что высказанная точка зрения нуждается в более тщательном обосновании. По сути дела, сообщение Матвея Меховского о Клинском княжестве, достоверность которого и требовалось доказать, принимается за таковое исследователем лишь потому, что ближайшие потомки Константина не владели Дорогобужем. Этого негативного аргумента еще недостаточно, чтобы заключать о правильности известия польского историка. Необходимы позитивные данные, свидетельствующие, что в руках Константиновичей были клинские волости. И такие данные находятся.
Когда в конце 1365 г . умер князь Семен Константинович, то
выяснилось, что он «отчины своея удЪлъ и княгиню свою приказалъ князю великому
Михаилу Александровичю» [236]. Выражение «отчины
своея удЪлъ» означает часть, выдел князя Семена в общей отчине — владении отца.
Не совсем ясны мотивы передачи этой части не ближайшим родственникам (таковым
прежде всего являлся родной брат Семена князь Еремей) [237],
а тверскому великому князю Михаилу Александровичу, двоюродному брату
завещателя. Попытка В.С.Борзаковского объяснить этот шаг Семена Константиновича
его привязанностью к князю Михаилу Александровичу довольно наивна [238].
Дело, вероятнее всего, как и думал А.Е.Пресняков, заключалось в том, что
бездетный Семен хотел оставить свой удел в пожизненном владении жены и поэтому
во избежание всяких посягательств на земли жены в будущем поручал ее заботам
самого могущественного князя тверского дома [239].
В те времена княгини не имели права передавать по наследству свои владения, они
становились выморочными, а потому удел князя Семена по смерти его вдовы должен
был отойти к опекуну последней, т.е. к великому князю Михаилу Тверскому. Но,
видимо, Михаил сразу же поспешил закрепиться в землях Семена. В начале 1366 г . он «нарядил» новый
городок на р.Волге [240], вероятно, как показывают дальнейшие
события, во владениях князя Семена или на их границах. Решение Семена
Константиновича и действия Михаила Александровича вызвали протест со стороны
брата Семена Еремея и бывшего тверского великого князя Василия Михайловича
Кашинского. В том же 1366 г .
в Тверском княжестве началось «нелюбие князю Василию и его братаничю князю
ЕремЪю съ княземъ великымъ съ Михаиломъ съ Александровичемъ про часть отчины
княжи Семеновы» [241]. Попытка Василия и Еремея
воздействовать на Михаила через митрополита и местного епископа успеха не имела
[242]. Тогда они прибегли к помощи Дмитрия Московского. Тот
дал им войска, и в 1367 г .
начались военные действия. Михаил Тверской, кажется не дожидаясь их, отправился
за подмогой в Литву, а Василий Кашинский с сыном Михаилом и племянником Еремеем
Константиновичем «съ всею силою Кашиньскою приехавши во ТфЪрь многымъ людемъ
сотвориша досаду бесчестиемъ и мукою и разграблениемъ имЪниа и продажею бес
помилованиа. И къ Городку ратию ходили, привели съ собою и Московьскую рать
князя великаго» [243]. Речь, очевидно, идет о том самом
Городке на Волге [244], который был поставлен Михаилом
Александровичем в 1366 г .
Взять его не удалось, но московская рать и волочане опустошили тверские волости
на правом берегу Волги и повоевали волости «святаго Спаса».
Выступая на стороне Василия Михайловича и Еремея
Константиновича, московские полки не воевали, естественно, их владений.
Страдали волости Михаила Александровича, причем судя по тому, что в Твери сел
Василий Кашинский, опустошению подвергались преимущественно не великокняжеские
территории (они перешли в руки Василия) а земли собственного удела Михаила
Александровича и отошедшего к нему удела Семена Константиновича. Земли эти
находились по правому берегу Волги. Удел самого Михаила Александровича известен
— это Микулин, на который собирался напасть в 1363 г . князь Василий
Михайлович. Весьма вероятно, что четыре года спустя нападение на Микулин было
осуществлено. Но летопись сообщает также о повоевании в 1367 г . церковных волостей
св.Спаса, которые в 1363 г .
не упоминаются как объект предполагавшегося похода тверского великого князя.
«Нахожение» московской рати и волочан на эти волости в 1367 г . объясняется,
по-видимому тем что церковные волости относились к территории удела князя
Семена Константиновича. Как было показано выше, владения тверской епископской
кафедры располагались в клинских волостях. И это дает основания считать, что
князь Семен владел Клином или его частью.
Об этом же косвенно свидетельствуют и другие данные.
Построенный Михаилом Александровичем Городок на Волге, который не удалось взять
в 1367 г .,
был отнят у него московским правительством в 1368 г .: «Городокъ отъняли и
чясть отчины княжи Семеновы» [245] В самом Городке
москвичи «своего намЪстника посадили съ княземъ съ ЕремЪемъ» [246].
Приведенные летописные известия связывают Городок с территориями удела князя
Семена и его брата Еремея который удерживал Городок с московским наместником.
Удерживал правда, недолго. Зимой 1368/69 г. москвичи «отъступилися опять
Городка и всее чясти княжи Семеновы» тверскому великому князю [247].
Упорная борьба Москвы и Твери за Городок, расположенный судя по описанию
событий 1367 г .,
на правом берегу Волги объясняет по-видимому, некоторые действия
возглавлявшихся Дмитрием Московским полков русских князей в тверской войне 1375 г . Тогда Дмитрий
Московский взял города Зубцов, Микулин, Городок (Старицу) и Белгородок [248]. Микулин, Зубцов и Старица (последние два — на основании
соображений, изложенных выше) являлись собственными, «опришными» владениями
Михаила Александровича, и это делает понятным; почему на них пришелся удар
войск великого князя Дмитрия. Что касается Белгородка, то нападение на него в 1375 г . объяснить
затруднительно. Город этот упоминается в источниках только один раз, именно при
описании тверской войны 1375
г . Какой-либо заметной роли в последующее время
Белгородок не играл. Его отождествляют (по названию) с современным городом
Белым Городком, расположенным на правом берегу Волги при впадении в нее р.Хотчи
[249]. Определенное сходство названий, одинаковое расположение
на правом берегу Волги позволяют считать, что речь в летописном рассказе 1375 г . идет о том самом Городке,
который в 60-х годах XIV в. являлся яблоком раздора между тверским и московским
князьями. Такое отождествление объясняет, почему этот город одним из первых
подвергся нападению московской рати в 1375 г . Вместе с тем признание Белгородка
Городком помогает точнее очертить район владений Семена и Еремея
Константиновичей. Их отчина (если, конечно, верна идентификация Белгородка с
Городком) тянулась на довольно большое расстояние по правому берегу Волги и,
видимо, захватывала часть волостей, которые, по данным начала XVI в.,
принадлежали уже Кашину [250]. Посылка в 1371 г . Михаилом
Александровичем Тверским сына Еремея Константиновича Дмитрия ратью на Кистьму [251], лежавшую к северу от Кашина, также намекает на
соседство отчины Константиновичей с кашинскими землями.
Наконец, в разрядных записях под 1489 г . упоминается князь
Андрей Семенович Чернятинский [252]. Он приходился
праправнуком князю Еремею Константиновичу [253].
Прозвище Андрея Семеновича дано ему, скорее всего, по его владению. Как выяснил
В.С.Борзаковский, таким владением могло быть или с.Чернятино на р.Яузе к
северо-западу от Клина, или с.Чернятино на р.Ламе [254].
Историк Тверского княжества пытался территориально связать последнее Чернятино
с с.Дорожаевым, которое в его время признавалось Дорогобужем и считалось
центром удела Константиновичей. Но к западу и югу от ламского Чернятина, как
было показано в части о границах Тверского княжества, лежали клинские волости.
И становится очевидным, что с.Чернятино на Ламе, как и яузское Чернятино,
тянули к Клину. То, что потомок князя Константина Михайловича имел владения
именно в клинских волостях, нельзя признать случайным. Видимо, его предки также
владели землями в Клину.
Приведенные данные подтверждают, таким образом, сообщение Матвея Меховского о существовании в Тверской земле Клинского княжества. Теперь это сообщение становится прямым историческим свидетельством об особом уделе в Твери с центром в Клину. Им владели третий сын Михаила Ярославича, Константин, и его потомки.
После проведенного анализа представляется возможным более
конкретно судить о содержании духовной грамоты 1318 г . Михаила Ярославича
Тверского. Очевидно, старшему сыну Дмитрию Михаил выделил Тверь и прилегавшие
волости, второму сыну, Александру, — Зубцов, Старицу (Городок), Холм и Микулин,
третьему сыну, Константину, — Клин с волостями, а четвертому сыну, Василию, —
Кашин. Их мать, вероятно, получила села и волости в уделах сыновей. Во всяком
случае, сведений о группах волостей или даже отдельных волостях, принадлежавших
тверским княгиням, имевшим сыновей, в источниках нет. (См. рис. 5).
Рис.5.
Тверское великое княжество к 1322
г
Как показывает древнерусская княжеская практика наделения землями сыновей-наследников, значение уделов, в частности их размеры, понижались от старшего наследника к младшему. Думается, нe являлись исключением в этом отношении и владения сыновей Михаила Ярославича Тверского. В таком случае проведенный им раздел Тверского княжества представляет значительный интерес, поскольку новое политико-административное деление территории его отчины, несомненно, отразило, с одной стороны, определенные политические устремления тверского княжеского дома, с другой — объективный процесс хозяйственного развития Тверского княжества и дальнейшую его феодализацию.
Прежде всего нужно отметить, что самый главный город
княжества — Тверь — передавался старшему сыну. Хотя в Твери не заметно
признаков того коллективного владения столицей, какой наблюдается в XIV в.,
например в Москве, а позднее — в Рязани [255], это не означало,
что в Твери и ее округе не было дворов, слобод или сед, принадлежавших другим
представителям тверского княжеского дома. Такие владения были. На это намекает,
в частности, уже приводившийся факт ограбления в 1367 г . тверичей Василием
Кашинским и его союзниками. Поскольку спор тогда шел о наследстве князя Семена
Константиновича, можно догадываться, что отнимали имение, отдавали в «продажу»
среди других и тех людей, которые были связаны с этим князем. Вполне допустимо,
что Константиновичи имели в Твери особые слободы или села вблизи города. С этой
точки зрения показательны поздние известия о существовании в Твери
Дорогобужской слободки и слободки Микулинских князей [256].
Возможно, это остатки особых владений в городе ближаших потомков Константина и
Александра Михайловичей. Однако деления городских доходов, управления Тверью
наместниками различных князей здесь не видно. Власть сосредотачивалась в руках
тверского великого князя. Обладание Тверью делало его и в экономическом, и в
военном отношениях значительно сильнее своих сородичей, что способствовало
централизации княжества. Последняя, в свою очередь, благоприятствовала
осуществлению общерусских притязаний князей тверского дома, в частности их
борьбе за великое княжение Владимирское. Очевидно, что произведенный Михаилом
Ярославичем раздел своей отчины учитывал перспективы борьбы его сыновей за
владимирский великокняжеский стол. Внутреннее членение Тверского княжества по
уделам во втором десятилетии XIV в. стояло в определенной зависимости от
политической ситуации во всей Северо-Восточной Руси, от общерусских планов и
устремлений тверских князей.
Что касается уделов других сыновей Михаила Ярославича, то по своему значению они, конечно, уступали владениям их старшего брата, великого князя Дмитрия. Но феодальная иерархия старшинства в распределении городов и волостей сказалась и здесь.
Второму сыну Михаила, Александру, досталась южная часть Тверского княжества. Если оставить в стороне собственно Тверь, которая как столица должна была постоянно притягивать к себе население, то то переселенческое движение древнерусского населения с запада, которое началось в XIII в. под напором литовских феодалов, должно было прежде всего затронуть южные и отчасти восточные районы Тверского княжества. К тому же, насколько можно судить по современным данным, южные районы княжества были наиболее благоприятны для ведения сельского хозяйства. Здесь преобладали дерново-подзолистые почвы, в то время как в остальных районах Тверского княжества такие же почвы перемежались массивами полуболотных и болотных земель [257]. В хозяйственном отношении это выделяло южную часть Тверского княжества по сравюнию с восточными и северными его частями. Не случайно поэтому, по данная территория была выделена второму сыну Михаила Ярославича.
О причинах передачи Константину Клина, а Василию Кашина что-либо определенное говорить трудно. Возможно, клинские волости, особенно западные из них, были населены несколько гуще, чем кашинские, и здесь для княжеской власти можно было найти больше платежеспособного и военноспособного населения, чем в северо-восточных пределах княжества.
О рубежах между уделами Михайловичей сведений нет. Это не значит, конечно, что рубежей вообще не существовало. Они, несомненно, были [258], но отсутствие о них сколько-нибудь прямых сведений заставляет основываться при их реконструкции на естественно-географических особенностях территории Тверского княжества, координируемых с упоминаниями отдельных городов или волостей в княжеских уделах.
Рубеж тверского великокняжеского удела на юге проходил
где-то севернее Старицы (Городка), шел по верховьям рек, впадающих слева в Шошу
в ее нижнем течении, а далее по левому берегу Волги. Границу Твери с Кашином
пытался наметить В.С.Борзаковский. Основываясь на тексте летописной статьи 1367 г . [259],
сообщавшей о походе Михаила Александровича на Кашин, походе, закончившемся
перемирием у с.Андреевского, он отождествлял это Андреевское с современным ему
с.Андреевским-Мизгиревым, расположенным в 9 км от Кашина, и полагал, что оно стояло на
кашинско-тверском рубеже [260]. Последнюю мысль
В.С.Борзаковского опровергает анализ летописного свидетельства 1401 г . Под этим годом в
целом ряде сводов (старший текст — в Рогожском летописце) сообщается о том, что
тверской великий князь Иван Михайлович отнял у своего брата Василия «езеро
Лукое и Входъ Иер(у)салимъ» и отдал их племяннику Ивану [261].
Князья Василий Михайлович и Иван Борисович получили по завещанию 1399 г . великого князя
Михаила Александровича Кашин с Кснятином [262], из чего
следует, что оз.Лукое и Вход Иерусалим находились на кашинской территории. И
действительно, слободка, называвшаяся Иерусалимской по Входоиерусалимской
церкви, стояла на кашинском посаде [263]. Ее правильно
локализовал В.С.Борзаковский [264]. Но оз.Лукое он не
нашел. Не смог отыскать его и А.Е.Пресняков [265].
Между тем в писцовой книге Тверского уезда 1580—1581 гг. это озеро упоминается.
Оказывается, оно входило в состав озер, расположенных к северо-востоку от Твери
в так называемом Оршинском мхе, и соединялось протоком с самым большим озером
группы — Великим, находясь к востоку от него [266].
География кашинского озера Лукое, отстоявшего от Кашина много дальше
Андреевского-Мизгирева, наводит на мысль, что древний рубеж между Тверью и
Кашином проходил по болотистым пространствам между реками Медведицей и Волгой,
там, где позднее пролегла граница Тверского и Кашинского уездов.
Рубеж удела Александра Михайловича с уделом Константина проходил, видимо, по водоразделу рек Шоши и Лоби. От кашинских земель владения Константина отделялись, возможно, р.Хотчей.
Что касается кашинского удела Василия, то его земли лежали
по обеим сторонам Волги. За это говорит как известие 1287 г ., причислявшее к
кашинской «стране» Кснятин [267], так и выделение
Кашина и Кснятина в один удел в конце XIV в. великим князем Михаилом
Александровичем [268]. Поэтому нельзя согласиться с
В.С.Борзаковским, предполагавшим, что земли по правому берегу Волги
первоначально к Кашину не относились [269].
В целом первые уделы Тверского княжества представляли собой компактные территории, обязательно примыкавшие к Волге. В последнем случае свой отпечаток на географию уделов наложило расположение всего Тверского княжества на международном волжском. пути. В ранний период существования тверских уделов нельзя заметить того чересполосного владения одних княжеских ветвей на территории других, какое наблюдается в более позднее время. Исключение, видимо, составляла только сама Тверь и ее округа, где были владения разных представителей тверского дома. Однако такая система удельного членения Твери, способствуя владельческому дроблению территории, в то же время поддерживала политическое единство княжества, поскольку ставила младших князей в зависимость от тверского великого князя, в уделе которого располагались их дворы, села и слободы.
Привлечение данных XIV—XVI вв. для выяснения
территориального деления Тверского княжества по завещанию Михаила Ярославича
значительно облегчает характеристику эволюции государственной территории Твери
в период с 1319 г .
по конец XIV в., поскольку эти данные отразили основные факты дробления и
консолидации тверской территории за указанное время. Только необходимо их
систематизировать в хронологическом порядке, соотнеся с основными событиями
политической истории Твери.
Выделение уделов в Тверском княжестве, которое надо
датировать временем, когда в Твери узнали о казни в ханской ставке Михаила
Ярославича [270] и когда вступило в силу составленное им
завещание, нарушив владельческую целостность княжества, не нарушило, однако,
политического единения наследников Михаила. Защита от посягательств
владимирского великого князя Юрия Даниловича Московского, имевшие общерусскую значимость
планы борьбы за стол во Владимире сплачивали тверских князей и препятствовали
развитию местных центробежных сил. Союз братьев явился одним из важных
факторов, благодаря которому старший из Михайловичей, Дмитрий, сумел занять в 1322 г . великокняжеский
владимирский стол [271]. 21 ноября 1325 г . Дмитрий убил в Орде
главного врага тверских князей Юрия Даниловича [272],
за что и сам поплатился жизнью. 15 сентября 1326 г . по приказу хана
Узбека он был казнен [273]. За время пребывания Дмитрия в Орде
Тверским княжеством управлял, по-видимому, второй из Михайловичей, Александр.
После гибели брата он был поставлен Ордой в великие князья Владимирские [274]. Летописи умалчивают, стал ли при этом Александр
тверским князем. Но судя по тому, что его резиденцией был великокняжеский
дворец в Твери [275], Александр занял и тверской стол.
Таким образом, в его руках соединились территории двух тверских уделов —
собственного и брата Дмитрия.
После антиордынского восстания в Твери 15 августа 1327 г . и карательной
ордынской «Федорчюковой рати» зимой 1327/28 г. Александр Михайлович должен был
бежать в Псков, где пробыл (с перерывом) до 1337 г . [276]
Его братья Константин и Василий, скрывшиеся было от монголо-татар в Ладоге [277], уже весной или летом 1328 г . вернулись назад [278]. Тверским великим князем стал более старший Константин,
а Василий сел, очевидно, в Кашине. Но в отличие от своих предшественников
Константину Михайловичу, по-видимому, пришлось получать санкцию хана Узбека на
занятие тверского великокняжеского стола. Так следует объяснять поездку
Константина в Орду в 1328 г .
[279] С этого времени монголо-татары начинают систематически
вмешиваться в распределение столов в Тверском княжестве, оказывая заметное
влияние на перекройку тверской государственной территории. Передав ярлык на Тверь
Константину, они объективно способствовали соединению, хотя, возможно, и
временному, под его рукой бывших владений Дмитрия, Александра, а также его
собственных. Такое сосредоточение власти у одного лица над территорией почти
всего Тверского княжества (за исключением Кашина) в 1328 г . было для Орды
неопасным, поскольку княжество было в сильнейшей степени разорено военной
экспедицией Федорчюка; к тому же посажение на тверской стол Константина вбивало
клин в отношения между ним и хоронившимся от монголо-татар Александром. Но в
будущем подобная консолидация тверских уделов могла таить для Орды определенную
угрозу. Не исключено, что предвидение такой возможности (если только к тому
времени эта возможность не стала реальностью) сыграло известную роль в решении хана
Узбека простить князя Александра Михайловича и передать ему тверской
великокняжеский стол в 1337 г .
Правда, терминология летописи в данном случае несколько расплывчата. Александр
«приатъ пожалование отъ царя, въсприимъ отчину свою» [280].
Под термином «отчина» можно понимать как собственно удел князя Александра, так
и тверскую великокняжескую территорию, или же то и другое вместе. Видимо,
Александру вернули все, чем он владел до конца 1327 г . О владении
Александром тверской великокняжеской частью говорит как пребывание самого
Александара Михайловича и его семьи в Твери [281],
так и свидетельство договорной грамоты 1399 г . сына Александра великого князя
Тверского Михаила с Василием Московским. Договор 1399 г . регулировал также
отношения Твери с Новгородом Великим, поэтому в нем была сделана ссылка, что
эти отношения должны были быть такими же, как «при великом князЪ АлександрЪ
МихаиловичЪ, как жил без великого княжения» [282].
Очевидно, что составители договора имели в виду не период конца 1325 — конца
1327 или начала 1328 г .,
когда Александр был полновластным великим князем Владимирским, а второй период
его пребывания в Твери. И этот второй период они считали временем, когда Александр
правил Тверским княжеством. О получении Александром в то время своего первого
удела — Зубцова — свидетельствует владение его семьей в 40-х годах XIV в.
землями на юге Тверского княжества.
Таким образом, посажение Александра Михайловича Ордой на
тверской стол привело к перераспределению территорий внутри княжества.
Константин должен был довольствоваться только своим наследственным уделом —
Клином. В Кашине до 1346 г .
по-прежнему оставался Василий.
Казнь в Орде 28 октября 1339 г . Александра Тверского
и его старшего сына Федора [283] вновь изменила
политическое деление территории Тверского княжества. Тверь опять была отдана
монголо-татарами князю Константину [284]. Под его рукой
оказались клинские и великокняжеские земли. Вдова и младшие сыновья князя
Александра должны были получить в коллективное владение его первоначальную
отчину. Правда, В.С.Борзаковский, основываясь на словах Никоновской летописи о
том, что Александр перед убиением «о вотчинЪ своей глаголавъ» [285],
решил, что князь относительно своей отчины сделал какие-то распоряжения, но в
чем они заключались, раскрыть поостерегся [286].
А.В.Экземплярский, напротив, пo данному вопросу высказался довольно решительно.
Приведя слова Никоновского свода, он писал: «Говорить о вотчине можно многое,
но здесь, если не главным образом, то во всяком случае непременно была речь и о
наделе сыновей волостями» [287]. И далее называл конкретные
владения наследников Александра Михайловича [288],
понимая под «вотчиной» летописи собственный удел казненного князя. Со своей
стороны А.Е.Пресняков обратил внимание на то, что фраза о вотчине Александра
помещена в летописной повести о его смерти. Оценивая это свидетельство, ученый
заключил, что «если принять это указание литературной повести за точное
воспроизведение факта, надо признать, что духовной грамоты князь не успел
составить; нет и оснований для догадок, как он распределил между сыновьями свою
отчину на доли — уделы» [289]. К сказанному
А.Е.Пресняковым следует добавить, что нет не только никаких оснований для
догадок относительно того, как именно была распределена Александром Михайловичем
его отчина между наследниками, но даже нет никаких оснований считать, что такое
распределение вообще имело место. Сопоставление рассказа Никоновской летописи
об убиении Александра Тверского с более ранними версиями того же повествования,
отраженными в Рогожском летописце, Тверском сборнике и фрагменте тверского
летописного свода, опубликованном А.Н.Насоновым, показывает, что в Никоновском
своде рассказ распространен и литературно обработан [290],
а слова «о вотчинЪ своей глаголавъ» являются вставкой, сделанной сводчиками XVI
в. [291] Очевидно, удел князя Александра стал
коллективным владением его наследников, которые, как показано было выше, и
распоряжались им сообща до 60-х годов XIV в.
С вокняжением старшего из Александровичей Всеволода в Твери
в 1348 г .
основное деление тверской территории сохранилось. Только в Клину вместо одного
князя правили двое. Правда, были ли у сыновей Константина раздельные владения
или в своей отчине они княжили вместе, неизвестно. Во всяком случае, к 1361 г . Семен и Еремей
обладали уже обособленными уделами [292]. Общая территория,
подвластная великому князю Всеволоду, несколько сузилась. Его предшественники
владели великокняжеским уделом, а кроме того, своим собственным. Всеволод же
наследием отца распоряжался вместе с матерью и братьями. Трудно сказать,
сыграло ли это обстоятельство свою роль, но в 1349 г . Всеволод
Александрович должен был уступить тверской стол своему дяде Василию Кашинскому [293]. Через несколько лет, заручившись поддержкой Москвы и
Орды, князь Василий возобновил те притязания на земли Александровичей, которые
обнаружились еще в действиях Константина Михайловича [294].
Судя по уже цитировавшемуся летописному известию 1360 г . об уступке Василием
Михайловичем трети тверской отчины Всеволоду и его братьям [295],
тверскому великому князю удалось в течение какого-то времени контролировать
территорию удела Александровичей. Однако закрепиться здесь Василий не смог.
Ослабление его союзников Москвы и Орды, противодействие стоявшей за спиной
Всеволода Литвы [296] заставили тверского великого князя
отказаться от осуществления своих объединительных намерений. В этом случае, как
и в ряде других, внешнеполитическая обстановка влияла, и довольно существенно,
на внутреннее территориальное деление Тверского княжества. Последовавшее вскоре
за соглашением 1360 г .
дробление отчины Александровичей [297], как было
предположено выше, на Старицко-Холмский, Микулинский, а также Зубцовский [298] уделы знаменовало собой дальнейшее развитие центробежных
тенденций в Тверском княжестве. (См. рис. 6).
Рис.6.
Тверское великое княжество к 1360
г .
Однако распад отчины Александровичей и Константиновичей на
несколько полусамостоятельных мелких владений объективно способствовал
увеличению значения в системе тверских уделов великокняжеской территории. И
борьба за ее обладание резко обострилась. Она завершилась торжеством Михаила
Александровича Микулинского, сумевшего использовать против Василия Кашинского
такой важный фактор, как постоянно усиливавшееся в местном обществе
недовольство проордынской политикой князя Василия [299].
Михаил Александрович становился, таким образом, выразителем патриотических
чаяний тверичей. Благодаря этому, а также вследствие таких привходящих
обстоятельств, как смерть братьев, Михаил Александрович к 1366 г . сумел сосредоточить
в своих руках власть над собственно тверскими землями, Зубцовом, Микулином и
частью Семена Константиновича, т.е. половиной Клинского удела. Вне сферы его
непосредственной власти оставались старицко-холмские владения племянников
князей Ивана и Юрия Всеволодовичей, другая половина Клинского удела — князя
Еремея Константиновича и Кашинский удел князя Василия Михайловича. Начавшееся в
1366 г .
«нелюбие» тверских князей, Михаила Александровича, с одной стороны, Василия
Кашинского и Еремея Константиновича, с другой, из-за удела князя Семена вскоре
переросло в затяжной военный конфликт, в который оказались втянутыми все князья
Северо-Восточной Руси, великий князь Смоленский, Литва и Орда. Конфликт
завершился войной 1375 г .,
приведшей к сильному опустошению Тверского княжества [300].
По договору, заключенному Михаилом Тверским с Дмитрием Московским, тверской
князь удержал свои владения, за исключением ранее захваченной Рокитны и, быть
может, Киасовой Горы, но Кашинский удел был признан сторонами самостоятельным,
независимым от Твери княжеством [301]. Так продолжалось
сравнительно недолго. В 1382
г . умер последний кашинский князь Василий Михайлович из
рода своего тезки Василия же Михайловича [302] и Кашин
был присоединен к Твери [303]. Под властью Михаила
Александровича оказалась весьма значительная по местным масштабам территория,
намного превосходившая те владения, которыми распоряжались его предшественники
на тверском великокняжеском столе: его дядья, отец и брат. К концу XIV в.
консолидация государственной территории Тверского княжества существенно
продвинулась вперед, хотя в княжестве и оставались Холмский удел и владения в
бывшем Клинском уделе сыновей Еремея Константиновича [304].
Свои достижения в собирании тверской «земли и власти» Михаил Александрович
стремился сохранить и на будущее. В своем завещании, составленном не позднее 1399 г . [305],
Михаил Александрович выделил старшему сыну Ивану и его потомству Тверь, Новый
Городок, Зубцов, Радилов, Въбрынь, Опоки, Вертязин и Ржеву, сыну Василию и
внуку Ивану — Кашин с Кснятином; младшему сыну Федору — два городка Микулина с
волостями [306]. Таким образом, значительное
территориальное преобладание в Твери великокняжеских владений над
удельнокняжескими должно было иметь место и при преемниках Михаила.
Подведем некоторые итоги рассмотрению эволюции тверской
государственной территории на протяжении XIV в. Обусловленное экономическими и
социальными процессами деление Тверского княжества на уделы в 1319 г . вместе с тем
преследовало цели сохранения политического единства сыновей Михаила Ярославича
в их борьбе за владимирское наследие. Это было достигнуто путем передачи
старшему из Михаиловичей наиболеее важной территории княжества — Твери с ее
волостями. Такое распределение владений обеспечило главенство тверского
великого князя среди князей тверского дома.
Неудавшиеся попытки тверских князей в 20-е годы XIV в. играть руководящую политическую роль в Северо-Восточной Руси и возглавить национально-освободительную борьбу против ордынского ига привели к консервации удельных отношений в самом Тверском княжестве. В сохранении таких отношений были заинтересованы Орда и Москва. Орда поставила под свой контроль распределение столов среди князей тверского дома. И хотя на протяжении 1328—1365 гг. тверские великие князья делали неоднократные попытки расширить великокняжеские владения за счет удельных, эти попытки имели частичный и временный успех. Ни при Александре Михайловиче, ни при его братьях Константине и Василии не наблюдается попыток слияния великокняжеской территории с территориями их собственных уделов и нового ее членения между их сыновьями. Это наталкивает на мысль, что в Тверском княжестве происходило в миниатюре то же, что и в масштабе всей Северо-Восточной Руси: образовалась территория, которой управлял великий князь, но без права передачи ее по наследству. Управление же регулировалось Ордой.
Только с середины 60-х годов XIV в. в княжение Михаила Александровича начинается процесс неуклонного расширения тверской великокняжеской территории. То, что тенденция к объединению тверских земель под одной властью, спорадически проявлявшаяся в более ранний период, начинает становиться реальностью именно в указанное время, далеко не случайно. Усилившиеся в Орде в конце 50-х годов XIV в. смуты глубоко потрясли ее [307]. Ханская власть над Русью ослабла, а вместе с ее ослаблением рухнула прежняя ордынская политика жесткого контроля над Тверью. Там снова ожили освободительные и объединительные тенденции, которыми умело воспользовался Михаил Александрович. Таким образом, общее изменение политической ситуации в Восточной Европе в 50—60-е годы XIV в., несмотря на потрясения, испытанные Тверью в 1367—1375 гг., оказало заметное влияние на политико-территориальное деление Тверского княжества, способствуя в целом росту великокняжеских владений. Однако было бы недостаточно в данном случае объяснять этот процесс одними политическими причинами.
Прослеженное на основе различных свидетельств собирание тверских земель Михаилом Александровичем, присоединение им к великокняжеской территории некоторых уделов и слияние с ней его собственного интересно и важно сопоставить с характеристикой деятельности этого князя, принадлежащей перу писавшего в Твери его современника-летописца. По отзыву, возможно несколько преувеличенному, местного историка, Михаил Александрович «люди бещислено сладцЪ и благочинно собра и грады ТфЪрьскыя утверди» [308], даже «от странъ къ нему сбирахуся и сынове туждии поработаша тому» [309]. Но самое примечательное заключается в словах летописца о том, что при Михаиле «корчемникы и мытаря и торжьныя тамгы истрЪбишася» [310]. Это признание показывает, что в тверском обществе, очевидно еще до вокняжения Михаила Александровича, зрела потребность не только в избавлении от «великыя нужа иноплеменникъ» [311], но и в ликвидации различных таможенных барьеров, вызванных к жизни удельным дроблением территории княжества. Следовательно, вместе с задачами борьбы с игом уже давала себя чувствовать и некоторая экономическая потребность в объединении Твери. Эти причины и обусловили успех деятельности Михаила Александровича, к концу XIV в. сумевшего сосредоточить в своих руках власть над большей частью территории Тверского княжества.
148. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.191.
149.
ГБЛ, ф.310, № 1254, л .39.
150. Подробнее см.: Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском, с.233.
151.
ГБЛ, ф. 310, № 1254, л . 35, 36, 37, 38 об., 39.
152. Местоимение «им» в приведенной цитате из Повести надо понимать боле широко: «им» - это всем сыновьям и жене Михаила Тверского.
153.
Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси
в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.468-469, 471, 476. Что касается Василия,
то о его позднем рождении говорит тот факт, что в 1318 г . он провожал отца
вместе с матерью и вместе с матерью вернулся в Тверь, т.е. был, видимо, совсем
еще ребенком (более старший Константин был в то время уже заложником в Орде), а
также факт женитьбы Василия значительно позднее братьев. См.: ГБЛ, ф.310, № 1254, л .37об. (о посылке
Константина в Орду), 38 (о Василии); ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.45, под 6838 г . (о женитьбе
Василия).
154. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.468.
155. Там же, с.471,524.
156. ПСРЛ, т,15, вып.1, стб.41.
157. НПЛ, с.96; ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.42. Очевидно, будучи великим князем Владимирским, Дмитрий Тверской занял и новгородский стол. См.: ГВН и П, № 14, с.27.
158. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.87-88.
159. Там же, стб.84.
160.
Там же, стб.49 (уже цитировавшееся ранее известие о
проводах Василием старшего брата Александра от устья Кашинки до Святославля
Поля). На это известие, как на свидетельство принадлежности Кашина Василию
Михайловичу, впервые обратил внимание В.С.Борзаковский, хотя и неверно датировал
его 1338 г .
(Борзаковский В.С. Указ. соч., с.25).
161. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.480-483.
162.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.34, под 6796 г .
163.
Там же, стб.37, под 6825 г .
164.
Там же, стб.41, под 6829 г .
165. Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.640; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.192, примеч.1.
166.
Всеволод, Михаил, Владимир и Андрей Александровичи
фигурируют среди других князей тверского дома в известной грамоте тверскому
Отрочу монастырю 1362-1364 гг. (АСВР. т.3, № 116). Поскольку они вместе с
тверским великим князем Василием Михайловичем Кашинским, его сыном Михаилом, а
также с Еремеем и Семеном Константиновичами гарантировали монастырю податной и
судебный иммунитет по всей территории «нашей отчины», ясно, что у них были
самостоятельные уделы. Другое дело, когда эти уделы выделились в
самостоятельные. А.В.Экземплярский полагал, что это произошло сразу же (во
всяком случае de jure) после смерти Александра Михайловича Тверского,
казненного в Орде в 1339 г .
(Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.485, 540). А.Е.Пресняков считал, что
первоначально раздела отчины между наследниками Александра не было, а его
уделом управляла «семейная группа отчичей» во главе с вдовствующей
княгиней-матерью (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.192-193). Точка зрения А.Е.
Преснякова кажется ближе к истине. См. об этом ниже.
167. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.75.
168. Головин Н.Г. Микулинская лоюпись, составленная по древним актам от 1354 до 1678 года. М., 1854, с.3, 13 и примеч.8; Борзаковский В.С. Указ. соч., с.27. Э.А.Рикман уточнил, что на левом берегу р.Шоши стояла крепость, а по правому берегу располагался посад Микулина (Рикман Э.А. Указ. соч., с.80-81).
169.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.79, под 6873 г . мартовским. Всеволод
умер 8 января, Андрей - 12 января, а Владимир - 5 февраля 1366 г .
170. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.545; 641.
171.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.79, под 6873 г . мартовским. Хотя
А.В.Экземплярский, основывавшийся на поздней Никоновской летописи, проявлял
известные колебания в определении начальной даты великого княжения Михаила
Александровича в Твери (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.484, примеч.1438,
1439; с.487, примеч.1453; с.517), упоминание в раннем Рогожском летописце при
описании событий осени-зимы 1365
г . Михаила с титулом «великий князь» свидетельствует,
что к указанному времени он уже был тверским великим князем.
172. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.79.
173. Там же, т.15, стб.469.
174. Там же, т.15, вып.1, стб.81.
175. Там же, стб.84.
176.
ПСРЛ. СПб., 1885, т.10, с.217. А.В.Экземплярский датирует
данный эпизод и последующие события 1345 г . (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2,
с.540), но такая дата неверна. Хотя статья 1346 (6854) г.Никоновской летописи,
где излагается история борьбы тверских князей, составная, но в ней описаны
события 1346/47 г. (ср.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.297, 351). В этой же
статье сообщается и о смерти тверского князя Константина Михайловича, что
совпадает с тем же известием и под тем же годом более древнего РОГОЖСКОГО
летописца (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.57). Все это дает основания датировать
тверские события статьи 1346
г . Никоновского свода именно этим, а не 1345 г .
177. ПСРЛ, т.10, с.217-218.
178. Там же, с.220, 221.
179.
Там же, с.223. Вероятно, в связи с обострением отношений с
Василием Всеволод в том же 1352
г . отправил свою жену в Рязань (Там же, с.224).
180. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.65-66; т.10, с.229.
181. Там же, т.15, вып.1. стб.66, 67; т.10, с.230, под 1357 и 1358 гг.
182.
Там же, т.15, вып.1, стб.67; т.10, с.230, под 1358 г .
183.
Там же, т.15, вып.1, стб.67-68, т.10, с.231. В конце 1359 г . умер великий князь
Иван Иванович Красный и ослабла поддержка Василия Москвой.
184. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.69.
185. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.133; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.479, 539-541.
186. В тексте фигурирует княгиня Анастасия (Настасья) - жена Александра Михайловича (ср.: ПСРЛ, т.15, стб.467).
187. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.192, примеч.1.
188. Там же, с.196.
189.
Михаил родился в 1333 г . (ПСРЛ. СПб., 1851, т.5, с.220; ПСРЛ.
2-е изд. Пг., 1915, т.4, ч.1, вып.1, с.265).
190. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.69.
191.
Пресняков А.Е. Указ. соч., с.199, примеч.4. Несколько
странно то, что А.Е.Пресняков, знакомый с Рогожским летописцем, почему-то
цитирует текст статьи 1360 г .
по Никоновской летописи и даже прибегает к ее спискам, чтобы установить, надо
ли читать в тексте источника «треть» или «трети» (Там же). Древнейший текст в
данном случае сохранил Рогожский летописец, в рукописи которого читается «трети
(«трети» - в строке. - В.К.) ихъ очины» (ГБЛ, ф.247, № 253, л .289).
192. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.137.
193. Союз «а» («а князь Василеи...») в процитированном летописном тексте имеет не разделительное, а соединительное значение, он употреблен здесь вместо союза «и».
194. О времени составления Никоновского свода см.: Класс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков. М., 1980, с.51.
195. Данные о князьях Холмских собраны в статье А.А.Зимина. - Зимин А.А. Феодальная знать Тверского и Рязанского великих княжеств и московское боярство конца XV - первой трети XVI века, - История СССР, 1973, № 3, с.126.
196. Ср. сомнения по этому поводу А.Е.Преснякова. - Пресняков А.Е. Указ. соч., с.195, примеч.3; с.200, примеч.1.
197.
В цитировавшемся уже договоре 1375 г . между Михаилом
Тверским и Дмитрием Московским фигурируют безымянные братаничи тверского князя
(ДДГ, № 9, с.25, 26). Речь, очевидно, идет о сыновьях Всеволода, поскольку
другие братья Михаила потомства не оставили. Упоминание, хотя и безличное,
племянников Михаила в тексте соглашения свидетельствует о наличии у них уделов.
198. ПСРЛ, т.15, стб.478.
199. Там же, т.15, вып.1, стб.186. Тверской князь Иван Михайлович «пожаловалъ... своего брата князя Юриа...».
200. ДДГ, № 59, с.186, 189.
201. АСВР, т.3, № 18, с.34; № 19, с.35; № 102; ПСРЛ, т.25, с.311; Милюков П.Н. Древнейшая Разрядная книга официальной редакции. М., 1901, с.12.
202.
В духовной грамоте Ивана III, составленной в 1503 г ., Холм признавался
вотчиной Холмских. - ДДГ, № 89, с.361.
203. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.30-31.
204. ДДГ, № 89, с.361, 362; № 102, с.421.
205. Там же, № 104, с.442. Как уже говорилось, Погорелое городище ранее было центром волости Хорвач.
206. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.30. К такому же выводу пришел и А.В.Экземплярский (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2. с.539). Во второй половине XVI в. г.Холм превратился в дворцовое село (ДДГ, № 102, с.420).
207. Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950, с.447 (выписка Н.М.Карамзина); ПСРЛ, т.15, стб.461. Биографию Ивана Всеволодовича см.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.546-547.
208.
ПСРЛ, т.18, с.150, под 6910 г .
209. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.505.
210. А.В.Экземплярский считал, что Александр был вторым сыном Ивана Михайловича (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.505)). Это явная ошибка, возникшая, по-видимому, из-за невнимательного чтения родословных книг (ср.: Родословные книги, с.51, где у Михаила Александровича, а не у Ивана Михайловича показаны сыновья в таком порядке: Иван, Александр...). На самом деле Александр был старше Ивана. Он раньше Ивана начал принимать участие в политической жизни, раньше и женился (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.159, 165; Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.456 (выписка Н.М.Карамзина); ПСРЛ. СПб., 1897, т.11, с.188). Прав В.С.Борзаковский, считая Александра старшим сыном Ивана Михайловича {Борзаковский В.С. Указ. соч., с.181 и Родословная № 1).
211. Орешников А.В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896, с.25.
212. Там же, с.67.
213. ДДГ, № 89, с.357; № 104, с.437.
214. ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1925, т.4, ч.1, вып.2, с.388; т.5, с.252. В обоих сводах сохранился пересказ духовной грамоты тверского великого князя Михаила Александровича. Об идентичности Городеня (Городни) и Вертязина см.: Неволин К.А. Указ. соч., с.27, примеч.1.
215. ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.2, с.338; т.5, с.252.
216. Там же, т.11, с.218.
217. Там же, с.238.
218. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.33.
219. ПСРЛ, т.11, с.218-219.
220. ДДГ, № 89, с.361.
221. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.81.
222. О местоположении этого Городка См. ниже.
223. Сводка летописных известии о Городке-Старице была составлена В.С.Борзаковским (Борзаковский В.С. Указ. соч., с.31-33). Не имея четкого нредставления о соотношении летописных сводов, В.С.Борзаковский привел не древнейшие летописные известия о Старице, а сумму повторяющих друг друга известии из различных летописных сводов. В результате он пришел к выводу, что в XIV-XV вв. Старица называлась еще и Новым городком. Последнее неверно. Эпитет Новый в приложении к Городку-Старице встречается почти исключительно в поздних летописях, составленных во второй четверти XVI в. - Никоновской и Воскресенской (Там же, с.31-32). И это еще раз доказывает ошибочность отождествления В.С.Борзаковским Нового городка, упоминаемого в летописных статьях 1399, 1412 и 1422 гг., со Старицей.
224.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.165, под 6907 г .; т.18, с.143 (тот же
текст).
225.
Борзаковский В.С. Указ. соч., с.36; ДДГ, № 23, с.63
(договор 1427 г .);
№ 54, с.164 (договор 1449 г .),
с.484 (договор 1483 г .)
- та же статья.
226. Орешников А.В. Указ. соч., с.66; Крылов И.П. Старица и ее достопримечательности. 2-е изд. Старица, 1915, с.128.
227. ПСРЛ, т.1, стб.483.
228. Там же, т.25, с.228; т.18, с.230; т.15, стб.498.
229. Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.2, т.5, примеч.9.
230. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.27; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.515. А.Е. Пресняков, признавая Дорогобуж владением Константина и его потомков, не определял его местоположения (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.192, 194, 206-207).
231. ПКМГ, ч.1, отд.2, с.103 (с опиской в названии), 236; Тверская губерния. Список населенных мест, с.160, № 5046.
232. Флоря Б.Н. Об одном из источников «Трактата о двух Сарматиях» Матвея Меховского. - Советское славяноведение, 1965, № 2, с.57. Данные о владениях князя Андрея Дмитриевича были опубликованы М.К.Любавским (Любавский М.К. Областное деление..., с.274).
233. Любавский М.К. Областное деление..., с.274 и карта. Князь А.Д.Дорогобужский (в источнике XV в. приводится это его прозвище) держал также волость Высокий Двор (Там же).
234. Флоря Б.Н. Указ. соч., с.57.
235. Там же.
236. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.79.
237. Князь Константин Михайлович был женат дважды (Экземплярский А.В. Укаа. соч., т.2, с.478), поэтому в "литературе было высказано предположение, что сыновья Константина Семен и Еремей были детьми от разных браков (Там же). Но указанное соображение надо рассматривать как просто догадку, серьезно аргументировать его невозможно.
238. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.143.
239. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.206-207.
240. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.81. В Никоновской летописи известие о заложении Михаилом Городка на Волге отнесено к концу статьи 1366 (6874) г. и следует после сообщения о «нелюбии» тверских князей, затемняя последовательность и причинность событий. См.: ПСРЛ, т.11, с.8, 6 (текст о «нелюбии»).
241. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.81.
242. Там же.
243. Там же, стб.84.
244. Нельзя принять соображений В.С.Борзаковского и согласившегося с ним А.В.Экземплярского относительно местоположения этого Городка на р.Шоше, поскольку исследователями почему-то не принято во внимание прямое указание летописи о строительстве Городка на Волге. - Борзаковский B.C. Указ. соч., с.28; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.558.
245. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.87.
246. Там же.
247. Там же, стб.90.
248. Там же т.4 ч.1, вып.1, с.302, 303; т.5, с.234.
249. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.40.
250. В начале XVI в. Белгородок был центром одноименной волости Кашинского уезда. - ЦГАДА, ф.1193, кн.1, л.34.
251. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.98.
252. Милюков П.Н. Древнейшая Разрядная книга..., с.15. А.В.Экземплярскому этот факт известен не был, и он полагал, что прозвище Чернятинских и имена некоторых из них встречаются только в родословцах (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.558-559).
253. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, прил., табл.6.
254. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.28.
255. Об этом см.: Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в XIV-XV веках. М., 1957, с.199-202.
256. Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подьячего Богдана Фадеева 1626 года. Тверь, 1901, с.85, 86, 103.
257. См.: Атлас Калининской области. М., 1964, карта № 13.
258.
Ср. известие 1375
г . о захвате кашинщами и новоторжпами тверских
порубежных мест. - ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.302; т.5, с.234.
259. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.84; т.11, с.8.
260.
Борзаковский В.С. Указ. соч., с.40 (мир у Андреевского
здесь неверно датирован 1366
г .); Тверская губерния. Список населенных мест, с.191, №
6016.
261. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.177. В Рогожском летописце год события недописан. Исправная дата имеется в Симеоновской летописи (ПСРЛ, т.18, с.149).
262. ПСРЛ. т.4, ч.1, вып.2, с.388, т.5, с.252.
263. АСВР, т.3, № 118, с.155.
264. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.178; Примечания, с.111-112, примеч.842.
265. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.215, примеч.1.
266. ПКМГ, ч.1, отд.2, с.329; Атлас Калининской области, карта № 4, с.5; ЦГАДА. ф.1356, oп.1, д.5977.
267. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.34
268. Там же, т.4, ч.1, вып.1, с.388; т.5, с.252.
269. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.26.
270.
По свидетельству Повести о смерти в Орде Михаила Ярославича
Тверского, в Твери долго не знали об убийстве Михаила: «княинЪ же его и сыномъ.
не вЪдущим ни что же сътворшагося: далече бо бяше земля, не бЪ мощно вести
(донести) никому же» (ГБЛ, ф.310, № 1254, л .49). Только после возвращения из Орды
Юрия Московского «на другое же лЪто», т.е. после 28 февраля 1319 г ., тверичи узнали о
гибели своего князя (Там же, л.49об.). Третий сын Михаила Ярославича,
Константин, получил свой удел несколько позднее братьев. Он был в Орде, когда
казнили отца. Вместе с боярами Михаила Ярославича Константин был отдан князю
Юрию, который привел его с собой на Москву и некоторое время удерживал,
по-видимому, у себя. Во всяком случае, Константина не было среди братьев,
встречавших 6 сентября 1319 г .
гроб с телом Михаила (Там же, л.49об.). Самое раннее после указанной даты
известие, свидетельствующее, хотя и косвенно, о пребывании Константина в
Тверском княжестве, относится ко второй половине 1327 г . (НПЛ, с.98).
В.С.Борзаковский полагал, что Константин был отпущен Юрием тогда же, когда
между Москвой и Тверью было достигнуто соглашение о выдаче останков Михаила
(Борзаковский В.С. Указ. соч., с.118). Это сомнительно, потому что Константин
не участвовал ни в перенесении гроба отца из Москвы в Тверь, ни в захоронении
Михаила в тверском Спасском соборе (ГБЛ, ф.310, № 1254, л .49об. ПСРЛ, т.15,
вып.1, стб.40). А.В.Экземплярский утверждал, что Константин был выкуплен братом
Дмитрием за 2000 рублей в 1321
г ., и в то же время писал о том, что Константин вступил
во владение своим уделом в 1318 или в 1319 г . (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2,
с.476, примеч.1395; с.516). Эти высказывания А.В.Экземплярского ни на чем не
основаны. В 1320 г .
Константин женился на дочери Юрия Московского Софии, причем свадьба была
сыграна в Костроме - городе, принадлежавшем великому князю Владимирскому, т.е.
тому же Юрию (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.41). Возможно, после этой свадьбы
Константин и был отпущен в Тверь. Во всяком случае, он получил свой удел в
Тверском княжестве где-то между сентябрем 1319 и второй половиной 1327 г . (крайние даты).
271.
НПЛ, с.96; ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.42; т.18, с.89, везде под
6830 г .
мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.282.
272. ПСРЛ, т.18, с.89.
273. Там же, с.90.
274. Там же, т.15, вып.1, стб.42; Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.37.
275. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.43.
276. НПЛ, с.98, 348; ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.44, 48; т.18, с.90, 92; Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.38, 39. Согласно псковским летописям, Александр из десяти лет, проведенных в изгнании, полтора года пробыл в Литве (Псковские летописи. М.; Л., 1941, вып.1, с.17; М., 1955, вып.2, с.92).
277. НПЛ, с.98.
278. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.44; Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.38. Сообщение помещено под 1327 (6835) г., но отмечено, что Константин с братом Василием, матерью и боярами вернулись в Тверь «по рати», т.е. после монголо-татарской рати Федорчюка, опустошившей Тверское княжество зимой 1327/28 г.
279.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.44; Насонов А.Н. О тверском
летописном материале..., с.38, везде под 6836 г .
280. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.48; Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.39.
281.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.49, 51; т.15, стб.420; Насонов А.Н.
О тверском летописном материале..., с.39, 40. Под 1338 (6846) г. в Рогожском
летописце сообщается, что князь Александр вместе с ханскими послами пришел из
Орды «во ТфЪрь» (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.48); тот же текст, но под 6847 г . у А.Н. Насонова
(Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.39), однако указание на
Тверь нельзя принимать как свидетельство о занятии Александром тверского
великокняжеского стола. Слова «во ТфЪрь» могут обозначать здесь просто Тверское
княжество.
282. ДДГ, № 15, с.42.
283.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.51; т.18, с.92, везде под 6847 г . мартовским. О дате
см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.351.
284. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.53.
285. Там же, т.10, с.210.
286. Борзаковский В.С. Указ. соч., с.130.
287. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.485.
288. Там же, с.539.
289. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.192.
290. Еще Н.М.Карамзин писал о том, что составитель Никоновской летописи «расплодил описание последних минут Александровых...». - Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.4, примеч.308.
291. Ср.: ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.50; т.15, стб.420; Насонов А.Н. О тверском летописном материале..., с.40.
292. Так можно судить на основании статьи 1361 (6869) г. Рогожского летописца, где Семен выступает отдельно от Еремея. - ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.72.
293. ПСРЛ, т.10, с.221.
294.
Там же, с.223, под 6860 г .
295. ПСРЛ. т.15. вып.1. стб.69.
296. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.199.
297.
А.Е.Пресняков относил деление отчины Александровичей к 1360 г ., полагая, что
летописная фраза под 1360 г .
«раздЪлишася волостьми» означала раздел между Всеволодом Александровичем и его
братьями (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.199, примеч.4). Хотя предложенная
А.Е.Пресняковым трактовка летописного текста сомнительна, раздел действительно
имел место около указанного исследователем времени. До 1360 г . деления не могло
быть, потому что тверской великий князь Василий Михайлович до того года
удерживал в своих руках «треть ихъ очины», но к 1363 г . второй из
Александровичей, Михаил, имел уже собственный удел - Микулин (ср.: ПСРЛ, т.15,
вып.1, стб.69, 75). Следовательно, распад отчины Александровичей произошел
между 1360 и 1363 гг.
298.
Зубцов, видимо, был отдан (или поделен?) двум младшим
Александровичам, Владимиру и Андрею, а по смерти последних в 1366 г . перешел к их брату
Михаилу, который упоминает его в своем завещании 1399 г .
299. ПСРЛ, т.15, стб.468. На это обращал внимание А.Е.Пресняков (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.202. примеч.1).
300. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.110-112; т.15, стб.434-435; т.4, ч.1, вып.1, с.301-303; т.5, с.233-234; т.18, с.115-116.
301. ДДГ, № 9, с.226. «Тферь», т.е. Тверское княжество, была признана «вотчиной» Михаила, и Дмитрий Московский обязывался не претендовать на Тверь, если Орда ему будет ее предлагать.
302. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.143.
303. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.495 и примеч.1501.
304.
После отъезда в Москву князя Ивана Всеволодовича в 1397 г . (ПСРЛ, т.15,
стб.457) Михаил Александрович получил возможность контролировать его удел, по
высказанному ранее предположению, - Старицу.
305.
Дата похорон Михаила Александровича - среда 27 августа 6907 г . (ПСРЛ, т.15, вып.1,
стб.174, 175). Такое сочетание дня недели и числа месяца было в 1399 г . (См.: Черепнин Л.В.
Русская хронология. М., 1944, табл.15, с.61).
306. ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.2, с.388; т.5, с.252. Местоположение большинства перечисленных городов известно. Опоки - город близ Ржева на левом берегу Волги (Борзаковский В.С. Указ. соч., с.39; Рикман Э.А. Указ. соч., с. 72-73). Местоположение Радилова (если это только не описка летописца, перенесшего название волжского Городца Радилова на какой-то тверской Городец) и Въбрыни не определено (ср.: Борзаковский В.С. Указ. соч., с.39).
307. Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с.117-127; Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой Орде. - Вопр. истории, 1974, № 8, с.45-47.
308. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.167.
309. Там же, стб.168. Вместо «сынове туждии», в Симеоновской летописи читается «сынове чюжии» (Там же, т.18, с.144).
310. Там же, т.15, вып.1, стб.167.
311. Там же, т.15, стб.468.
|
|
|
|
ГЛАВА ПЯТАЯ
ТЕРРИТОРИИ СУЗДАЛЬСКОГО И НИЖЕГОРОДСКОГО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВ В XIV в.
В начале XIV в. Суздальское княжество, с 1341 г . ставшее частью
княжества Нижегородского, по размерам своей территории занимало, по-видимому,
среднее место между другими княжествами Северо-Восточной Руси. Составить
представление о пределах этой территории можно лишь по данным XV, а отчасти
даже и XVI в. К столь поздним свидетельствам приходится прибегать потому, что
сведения по географии Суздальского княжества за весь XIV в., не говоря уже о
первых десятилетиях названного столетия, когда Суздальское княжество, по
крайней мере номинально, оставалось независимым, буквально единичны. Применение
ретроспективного метода определения границ Суздальского княжества поры его
суверенности позволяет очертить эти границы, естественно, приблизительно. Но
погрешность не должна быть особенно велика. В XIV в. суздальские князья не
вступали со своими соседями в такие конфликты, следствием которых была бы
значительная перекройка территорий. Конечно, границы княжества не оставались
неизменными. На протяжении XIV-XV вв. они, видимо, расширялись прежде всего в
результате продолжавшегося хозяйственного освоения края, и преимущественно на
север, но амплитуда их колебаний не могла быть очень большой. Поэтому
ретроспективное восстановление пределов Суздальского княжества первых трех
десятилетий XIV в. дает хотя и не детальное, но достаточно твердое
представление о территории, находившейся под властью потомков князя Андрея
Ярославича.
На юг в сравнительной близости от Суздаля был расположен Владимир, а на запад - Юрьев. Эти два древних города Северо-Восточной Руси в XIV в. были княжескими центрами. Подвластные им территории сложились давно и в освоенных местах имели четкие пределы. Следовательно, можно наметить южную границу Суздальского княжества, которая отделяла его территорию от территории великого княжества Владимирского, а также западную, расчленявшую суздальские земли и земли Юрьевского княжества.
Документы XV в. фиксируют в южной части Суздальщины ряд населенных пунктов и других географических объектов, местоположение которых позволяет выявить старый суздальско-владимирский рубеж. Так, в данной грамоте Н.Д.Нарбекова, составленной около 1444-1445 гг., упоминается «луг Круглой, едучи к Печюзe» [1]. Река Печуга впадает в р.Нерль Клязьминскую с левой стороны. Луг Круглый находился «под слободкою под Нискою на оной сторонЪ Нерли» [2]. Слободка Низкая — позднейшая Щенячья слободка [3], стоявшая на правом берегу Нерли недалеко от впадения в нее Печуги [4]. Следовательно, луг Круглый локализуется в междуречье Нерли и Печуги. Луг косили крестьяне слободки Чапихи — владения потомков суздальских князей [5]. Таким образом, правобережная часть низовья Печуги была суздальской. По данным конца первой четверти XVI в., земли по левому берегу Печуги принадлежали владимирским чистушским бортникам [6]. Село Чистуха сохранилось и в XIX в. [7] Оно было расположено километрах в трех к юго-западу от устья Печуги [8]. Очевидно, что Печуга в своем нижнем течении и являлась суздальско-владимирским рубежом.
К западу от печужского устья, ниже по Перли, на ее правом берегу стояли упоминаемые в актах XV в. села Мордаш и Васильково [9]. Земли этих сел имели общую границу [10]. Село Мордаш было давним владением суздальских князей [11]. Тот факт, что в середине XV в. московская великокняжеская администрация не знала, как отделить мордашские земли от васильковских, и поручила размежевание этих земель людям княгини Марии, вдовы суздальского князя Семена Александровича [12], позволяет сделать вывод, что и с.Васильково некогда принадлежало суздальским князьям. Тем самым устанавливается, что земли по правому берегу Нерли ниже впадения в нее Печуги издавна были суздальскими.
К Суздалю относилось также и с.Улола. По названию оно отождествляется с с.Улол XIX в. [13] Село Улола было расположено к западу, с небольшим отклонением на север, от с.Василькова, примерно в трех км от него [14]. В XV в. села Улола и Васильково были отданы московскими великими князьями владимирскому Рождественскому монастырю, причем документы XVII в. и пересказ того же времени древние грамот этого монастыря свидетельствуют о принадлежности обоих сел к территории Суздальского уезда [15]. Земли названных сел, видимо, были расположены на самой границе Суздальщины. Так можно думать потому, что находившееся менее чем в четырех км к юго-западу от с.Улолы с.Борисовское относилось к Владимиру [16].
Далее от с.Улолы на запад — северо-запад на пространстве в 12 км стояли села Павловское,
Федоровское и Туртинское [17], о которых известно,
что они были суздальскими. Села Павловское и Туртинское, по данным XVI в.,
входили в состав Суздальского уезда. Они являлись собственностью Суздальской
владычной кафедры [18] и, по-видимому, с достаточно раннего
времени. Село Павловское, в частности, упоминается в документе 70-х годов XV в.
[19], Что касается с.Федоровского, то оно фигурирует в целом
ряде актов XV в., причем в некоторых — с указанием «в Суздале» [20].
Упоминание в одной из грамот третьей четверти XV в. рядом с землями
с.Федоровского Выповской земли и Тарбаева [21]
свидетельствует, что речь идет именно о с.Федоровском, расположенном к западу —
северо-западу от с.Улолы, поскольку села Выпово и Тарбаево, сохранившиеся и в
XIX в. [22], как показывают картографические
материалы, соседили с с.Федоровским [23].
Таким образом, локализация перечисленных выше поселений и угодий на юге Суздальщины и отчасти на севере владимирской территории позволяет провести примерную границу Суздальского княжества с великим княжеством Владимирским. Оказывается, что эта древняя граница в основном совпадала с позднейшей границей Суздальского и Владимирского уездов.
Подобным же образом устанавливается и западный предел владений суздальских князей. Сохранилось свидетельство, что жена Дмитрия Донского княгиня Евдокия, дочь нижегородского князя (из суздальских) Дмитрия Константиновича, пожертвовала во Владимирский Рождественский монастырь село Баскаково [24]. Земли этого села были расположены по берегам р.Ирмеса, близ с.Дергаева, принадлежавшего с 60-х годов XV в. Троице-Сергиеву монастырю [25]. По данным XVII в., с.Баскаково относилось к Суздальскому уезду [26]. Приведенные свидетельства о с.Баскакове позволяют отождествить его с д.Баскаки XIX в., стоявшей в верхнем течении р.Ирмеса, близ его правого берега [27].
На той же реке были расположены и другие владения
суздальских князей. Так, в договорной грамоте 1445 г . Дмитрия Шемяки с
нижегородскими князьями Василием и Федором Юрьевичами упоминается «удельное»
суздальское село «слободка Шиповьская» [28]. Поселение с таким
названием известно и в XIX в. [29] Оно стояло на правом
берегу Ирмеса, в 7—7,5 км (по прямой) от д.Баскаки [30].
Несколько выше Шиповской слободки на другом берегу Ирмеса картографические
материалы XIX в. фиксируют с.Шипово [31]. Около этого села
(ныне — деревни) обнаружен курганный могильник XI—XIII вв. [32].
Следовательно, Шипово было достаточно древним поселением. Несомненна
генетическая связь между Шиповом и Шиповской слободкой (последняя, вероятно,
отпочковалась от первого). Но если Шиповская слободка входила в состав земель
суздальских князей, то и Шипово, скорее всего, должно было принадлежать тем же
князьям. Их владения, видимо, лежали по обоим берегам Ирмеса.
Заключенный во второй половине 1434 г . договор между
великим князем Василием Васильевичем и его двоюродными братьями Дмитрием
Шемякой и Дмитрием Красным содержал следующий пункт: «А што въвел зять мои,
князь Олександръ Иванович, отцу вашему четыре села, два Гавриловские, да
Ярышево, да Ивановьское, в долгу в пятисот рублЪхъ, и мнЪ то вам отъправити по
доконьчанью» [33]. Из текста договора выясняется, что
названные в нем четыре села в свое время принадлежали зятю великого князя. Речь
идет о князе Александре Ивановиче, женатом на сестре Василия Васильевича
Василисе [34]. Князь Александр происходил из рода
нижегородских (суздальских) князей [35] и его вотчинные [36] села Гавриловские, Ярышево и Ивановское должны
рассматриваться как части территории некогда независимого Суздальского
княжества.
Два села Гавриловские но названию могут быть отождествлены
с позднейшими Гавриловским посадом и Гавриловской слободой, расположенными по
соседству друг с другом на левом берегу Ирмеса, по обе стороны от устья
р.Ваймиги (Воймиги) [37]. Относительно местоположения
с.Ярышева М.К.Любавский писал, что оно стояло на Ирмесе, но на приложенной к
своему исследованию карте поместил с.Ярышево к северу от сел Гавриловских [38]. С последней локализацией М.К.Любавского согласился
И.А.Голубцов [39]. Действительно, для помещения с.Ярышева
грамоты 1434 г .
на Ваймиге [40] есть все основания. Во-первых, это село
расположено поблизости от упоминаемых вместе с ним сел Гавриловских. Во-вторых,
оно и в XIX в. относилось к государственным селам [41].
Что касается с.Ивановского, то его следует, по-видимому, идентифицировать с
с.Ивановом XIX в., расположенным в 8
км к северу — северо-западу от с.Ярышева вблизи большого
лесного массива [42].
Из сказанного следует, что западная граница Суздальского княжества проходила где-то в районе Ирмеса, захватывая, вероятно, его верховье и земли по левому берегу реки до поворота ее русла на восток. От этой излучины Ирмеса западные суздальские земли простирались на север до соседнего с с.Ивановским леса.
Как далеко уходили суздальские земли на северо-запад от очерненного района, сказать трудно. Возможно, они достигали верхнего течения Нерли Клязьминской. Эта река являлась частью водной магистрали, связывавшей Верхнее Поволжье с Волго-Клязьминским междуречьем как в домонгольский, так и в послемонгольские периоды [43]. Верховья Нерли Клязьминской были заселены славянами в XI—XIII вв. [44]. Нерль Клязьминская представляла собой удобный путь распространения суздальской дани, поэтому кажется весьма вероятным, что земли по ее верхнему течению входили в состав Суздальского княжества.
Северную и восточную границы этого княжества наметить еще
сложнее, чем южную или западную [45]. С одной стороны,
есть факты, позволяющие говорить об освоении только во второй половине XV в.
земель, расположенных всего в 25—30 км к северу от Суздаля. Так, в одной из
грамот суздальского Спасо-Евфимьева монастыря, датируемой примерно серединой
60-х годов XV в., упоминаются пожни на Нерли монастырского села Стебачева,
которые покосили крестьяне великого князя. На суде эти крестьяне показали, что
они «люди пришлые» и что «велЪл ся нам садити государь наш князь велики от
Красеньские дороги до Шатрищ» [46]. Село Шатрищи было расположено
на правом берегу Нерли Клязьминской на расстоянии примерно 22 км по прямой к северу от
Суздаля [47]. Село Стебачево стояло на другом берегу
Нерли, километрах в 5 (также по прямой) на север от Шатрищ [48].
Видимо, даже во второй половине XV в. этот район был населен недостаточно,
поскольку сюда великим князем Иваном III «назывались» крестьяне.
С другой стороны, данные XIII в. указывают на существование
сухопутного пути из Владимира на Городец Радилов, проходившего через с.Омуцкое,
т.е. через Суздаль на север и далее на восток. Если эта довольно длинная
дорога, связывавшая в домонгольское время различные центры Владимирского
великого княжества, не пролегала по территории Стародубского княжества, а шла
только по владимирским землям, то она должна была проходить севернее
стародубского села Палех. Столь протяженный путь должен был прокладываться
между какими-то селениями. А населенные земли в XIII—XIV вв. не могли не
являться объектами государственной феодальной эксплуатации. После выделения из
Владимирского княжества в 1238
г . Суздальского к суздальским князьям должна была отойти
значительная часть территории, по которой проходила дорога на Городец Радилов.
И тогда границу Суздальского княжества надо отодвигать намного севернее
указанного ранее района сел Шатрищ и Стебачева.
Для конкретизации высказанной мысли важное значение имеют свидетельства XV—XVI вв. о принадлежности потомкам суздальских князей земель по среднему и нижнему течениям левого притока Клязьмы р.Уводи и правых притоков последней — рек Ухтомы (Ухтохмы) и Вязьмы [49], а также земель по верхнему течению р.Тезы, в районе Никольского Шартомского монастыря [50]. Вероятно, северная граница Суздальского княжества поры его политической самостоятельности пересекала верхние течения рек Вязьмы, Ухтомы, Уводи и Тезы, достигая на востоке р.Луха или водораздела между реками Тезой и Лухом. Во всяком случае, за Лухом в начале XV в. были расположены городецкие земли, в 1341—1392 гг. входившие в состав великого княжества Нижегородского.
К среднему течению Луха выходили земли Стародубского княжества, а нижнее течение этой реки разграничивало в XV в. владимирскую и нижегородскую территории [51]. Таким образом, восточный рубеж Суздальского княжества мог достигать только верхнего и отчасти среднего течения Луха. Отсюда суздальская граница шла в юго-западном направлении к южной окраине княжества, резко вклиниваясь по р.Уводи в стародубские земли.
Владения суздальских князей первых четырех десятилетий XIV в. в очерченных пределах были освоены и заселены далеко не равномерно. Более всего были освоены земли вокруг самого Суздаля по Нерли Клязьминской и ее правому притоку р.Ирмесу. Лесистые северная и восточная части княжества осваивались на протяжении XV—XVII вв. Таким образом, в пору политической самостоятельности Суздальского княжества в распоряжении его князей фактически имелась довольно ограниченная по своим размерам обжитая и освоенная территория, с населения которой можно было взимать феодальную ренту.
Экономическая слабость во многом обуславливала и
политическую немощь суздальских князей в начале XIV в. Показателем ухудшения их
имущественного положения и упадка власти в собственном княжестве служит покупка
великим князем Владимирским Юрием Даниловичем Московским с.Весьского и
д.Кощеево [52]. Покупка состоялась между летом 1317 и
осенью 1322 гг., когда Юрий занимал великокняжеский стол [53].
Село Весьское (Весь) и д.Кощеево стояли на правом берегу Ирмеса в 7 и 14 км к северо-западу от
Суздаля [54]. Речь, следовательно, идет о
великокняжеском приобретении не на окраине Суздальского княжества, где его
земли соприкасались с великокняжескими, а в самом центре Суздалыцины, в гуще
владений местных князей [55]. Это внедрение
великокняжеской власти в суздальскую территорию хотя и было кратковременным
(Юрий Московский пожертвовал Весьское и Кощеево Владимирскому Рождественскому
монастырю, что могло иметь место до смерти Юрия в 1325 г . [56]),
тем не менее красноречиво демонстрирует политическую слабость суздальских
князей и их определенную зависимость от владимирского великого князя.
Возможно, что этот упадок роли и значения Суздальского
княжества усугублялся дроблением его территории. После смерти в 1309 г . суздальского князя
Василия Михайловича [57] остались два его сына — Александр и
Константин [58]. Существование двух княжичей-наследников
делает теоретически допустимым раздел Суздальского княжества уже в конце
первого десятилетия XIV в. Однако в распоряжении исследователей нет данных,
подкрепляющих или опровергающих такое предположение.
* * *
При князе Константине Васильевиче исторические судьбы
Суздаля оказались воедино связанными с Нижним Новгородом и Городцом. В
Северо-Восточной Руси возникло новое государственное образование —
Нижегородское княжество. Но в первые годы XIV столетия в Среднем Поволжье
продолжало существовать выделенное еще третьему сыну Александра Невского Андрею
Городецкое княжество. Со смертью князя Андрея Александровича, занимавшего
одновременно и стол великого княжения Владимирского, Городецкое княжество не
утратило своей самостоятельности. Факт захоронения князя Андрея в Городце [59] свидетельствует о том, что этот город оставался центром
его вотчинных земель. На существование особого княжества в Поволжье косвенно указывает
и летописная запись о нижегородских событиях 1305 г . В Софийской I
летописи под названным годом сообщается, что «въ НовЪгородЪ въ Нижнемъ черный
люди побили бояръ; князь Михайло АндрЪевичъ изъ Орды приЪхавъ въ Новъгородъ
Нижний, изби вЪчниковъ» [60]. Поскольку весьма
близкий текст есть и в Новгородской IV летописи [61],
становится ясным, что известие о нижегородских событиях начала XIV в. читалось
в общем источнике Софийской I и Новгородской IV летописей —
Новгородско-Софийском своде 30-х годов XV в. [62]
и, судя по всему, восходило к общерусскому источнику этого свода — своду 1423 г . митрополита Фотия [63].
Данные о происхождении интересующей нас летописной записи 1305 г . необходимо иметь в
виду потому, что в некоторых других летописных сводах лицом, расправившимся с
нижегородскими вечниками, назван князь Михаил, но не Андреевич, а Ярославич.
Последнее обстоятельство дало повод отдельным историкам подозревать ошибку в
Новгородской IV и Софийской I летописях и писать о тверском князе Михаиле
Ярославиче, как раз в 1305 г .
вернувшемся из Орды с ярлыком на великое княжение Владимирское, приписывая ему
усмирение нижегородского восстания [64]. Если согласиться с
этими исследователями, то придется признать, что после смерти великого князя
Андрея Александровича Городецкое княжество (или по меньшей мере значительная
часть его — Нижний Новгород) перешло под власть его преемника на великокняжеском
столе Михаила Ярославича Тверского. Однако имя этого князя при описании
нижегородских событий 1305 г .
фигурирует только в своде 1509
г . (в так называемом «списке Царского») и в
Воскресенской летописи [65]. Из двух названных памятников старшим
является, несомненно, список Царского, который к тому же, как выясняется, был
непосредственным источником Воскресенского свода [66].
Обращение к рукописи списка Царского показывает, что первоначальное отчество
князя Михаила в статье 1305 г .
«[Ан]дьреевич» было смыто и другим почерком переправлено на «Ярославич» [67]. Очевидно, что это результат не вполне квалифицированной
редакторской работы сводчиков XVI в., на основании соседних со статьей 1305 г . записей списка
Царского, где упоминался Михаил Ярославич, решивших, что и под 1305 г . речь идет о нем же,
а отчество «[Ан]дьреевич» — ошибка. Из списка Царского неверная поправка
перешла в Воскресенскую летопись [68]. Так, в первой
половине XVI в. в результате неудачного осмысления летописных текстов возникло
известие о причастности Михаила Ярославича Тверского к событиям в Нижнем
Новгороде.
На самом деле речь должна идти о князе Михаиле Андреевиче. Отсюда вытекает, что в Нижнем Новгороде в начале XIV в. действовал особый князь.
К какой же ветви русских князей принадлежал Михаил
Андреевич? На этот счет у исследователей нет единого мнения. С.М.Соловьев
склонялся к мысли, что Михаил Андреевич был сыном великого князя Андрея
Александровича [69]. Мнение С.М.Соловьева решительно
оспаривал А.В.Экземплярский, следом за Н.М.Карамзиным считавший, что князь
Михаил был сыном брата Александра Невского Андрея Ярославича [70].
Оба исследователя основывались на родословных росписях суздальских и
нижегородских князей, помещенных в Никоновской летописи [71].
Однако эти родословные росписи позднего летописного памятника, как справедливо
заметил А.Е.Пресняков, спутаны и противоречивы [72].
К тому же они оказываются вставками, сделанными составителями Никоновского
свода в XVI в. [73]. Поэтому опираться на них при решении
родословных вопросов XIV в. нельзя. Если же исходить из данных самой статьи 1305 г ., то необходимо
отметить два обстоятельства: во-первых, князь Михаил действует в районе, где
непосредственно перед этим княжил Андрей Александрович (Нижний Новгород и
Городеп постоянно относились к одной политико-административной территории);
во-вторых, отчество Михаила совпадает с именем того же Андрея Александровича.
Сочетание обоих фактов заставляет видеть в Михаиле Андреевиче сына Андрея
Александровича. Согласованность этого вывода с показанием записи 1303 г . об освящении церкви
в Вологде при князе Андрее Александровиче и его сыне Михаиле [74]
приводит к твердому заключению, что у великого князя Андрея был сын Михаил.
Вместе с тем становится очевидным, что Михаилу досталась отчина его отца —
Городецкое княжество.
Таким образом, летописные свидегельства 1304 г . о захоронении
великого князя Андрея Александровича в Городце и 1305 г . о действиях в Нижнем
Новгороде его сына Михаила указывают на продолжавшееся существование в
восточной части Руси самостоятельного Городецкого княжества. Так было до 1311 г .
Под 1311
г . в некоторых летописных сводах сохранилось известие о
том, что «князь Дмитреи Михаиловичь Тферьскии, собравъ воя многи, и хотЪ ити
ратью къ Новугороду на князя на Юрья и не благослови его Петръ митрополитъ
столомъ въ Володимери; онъ же стоявъ Володимери 3 недЪли и рать распусти и
възвратися въ землю свою» [75]. Процитировав это
сообщение, как полагает М.Д.Приселков — из пергаменной Троицкой летописи [76], Н.М.Карамзин счел его относящимся к более позднему
времени и повествующим о событиях, связанных не с Новгородом Нижним, а с
Новгородом Великим [77]. Датировав конфликт между Дмитрием
Тверским и Юрием Московским 1312
г . С.М.Соловьев признавал, что тверской княжич
намеревался отправиться в поход на Новгород Нижний. Однако ученый находил, что
все известие — «трудное для объяснения» [78]. «Не совсем ясным»
оказалось оно и для А.В.Экземплярского. Сославшись на соответствующие места
Новгородской IV, Софийской I, Никоновской и Воскресенской летописей,
исследователь остановил свое внимание почему-то на самой поздней из них —
Воскресенской, где было сказано, что Дмитрий Михайлович «хотЪ ити на Новгородъ
Нижний ратью и на князя Юрья» [79]). Спасительный союз
«и» дал возможность А.В.Экземплярскому отрицать присутствие в Нижнем Новгороде
в 1311 г .
московского князя. Впрочем, заканчивая рассмотрение данных о судьбе Нижнего в
первой трети XIV в., историк вынужден был подвести неутешительный итог: «Итак,
трудно сказать что-нибудь более или менее определенное о том, владели или нет
московские князья суздальскими пригородами (речь идет о Нижнем Новгороде и
Городце. — В.К.), хотя очевидно, что в пользу этого мнения шансов меньше, чем в
противоположную сторону» [80]. Интересный
комментарий к известию 1311 г .
дал А.Е.Пресняков, но исследователь обошел полным молчанием поставленный
А.В.Экземплярским вопрос о том, кому принадлежал Нижний Новгород в начале
второго десятилетия XIV в. [81] А.Н.Насонов
высказался за «правильность и древность летописной заметки 1311 г . о владении Нижним
московским князем», однако убедительных аргументов в пользу, своей точки зрения
не привел [82]. Таким образом, в научной литературе
существуют различные интерпретации сообщения 1311 г ., сделанные, впрочем,
без учета всех показаний источника. Что же бесспорного можно почерпнуть из
приведенной выше летописной записи о намечавшемся походе Дмитрия Тверского
против московского князя?
Прежде всего, старшие летописные своды, где сохранилось
указанное сообщение, позволяют утверждать, что объектом нападения тверской рати
должен был послужить Новгород Нижний, а не Новгород Великий, как в свое время
думал Н.М.Карамзин. Хотя Нижний Новгород фигурирует в более поздних текстах, а
в ранних указан просто Новгород [83], под последним
следует разуметь именно Новгород Нижний. Дмитрий Тверской собирал для похода
полки во Владимире, а после того как митрополит Петр фактически наложил
церковный запрет на выступление, княжич вынужден был возвратиться «восвояси»
или «въ землю свою», как более определенно читалось, видимо, в пергаменной
Троицкой летописи и читается в Софийской I летописи [84].
Впрочем, какое бы из летописных выражений ни признавать древнейшим, ясно, что
Дмитрий ушел в Тверское княжество. Если считать, что в 1311 г . предполагался поход
на Новгород Великий, тогда становится странным, почему полки собирались во
Владимире, а не в гораздо ближе расположенной к Новгороду Великому Твери. Эта
странность заставляет отвергнуть мысль Н.М.Карамзина и признать правильность
мнения последующих историков, согласно которому под Новгородом летописной
статьи 1311 г .
нужно понимать Новгород Нижний. В таком случае концентрация сил под Владимиром
легко объяснима: из Владимира на Нижний шли удобные речная и сухопутная дороги.
Древнейшие своды, в отличие от более поздней Воскресенской
летописи, содержат совершенно недвусмысленное указание на то, что Дмитрий
Михайлович намеревался выступить «къ Новугороду на князя на Юрья» [85].
Этим устраняются всякие сомнения относительно того, был или нет в 1311 г . в Нижнем Новгороде
московский князь. Он там был. Трудность заключается в том, чтобы ответить ча
вопросы, в какой связи и зачем оказался в поволжском городе Юрий Московский.
Здесь многое проясняет сохранившаяся копия первой четверти XVIII в. с памятного листа, лежавшего на гробнице родного брата князя Юрия князя Бориса Даниловича. В листе указывалось, что Борис скончался «в лЪто 6828-го», похоронен «в соборной церкви Успения пресвятыя Богородицы златоверхия в славном градЪ Владимире» и что он был «в Нижнем НовъгородЪ на удЪлном своем княжении» [86]. Дата смерти четвертого сына основателя московской династии и указание на место его погребения точны. Они полностью соответствуют летописной записи об этом [87]. Но сообщение о княжении Бориса Даниловича в Нижнем Новгороде уникально. Едва ли приходится сомневаться в его достоверности, поскольку другие сведения о князе Борисе, содержавшиеся в листе на его гробнице, верны. Да и каких-либо причин, которые заставили бы информаторов прошлого сфальсифицировать такое известие, не видно.
Факт существования до 1320 г . особого
Нижегородского княжества во главе с представителем московского дома дает ключ к
пониманию событий 1311 г .
Очевидно, к 1311 г .
умер городецкий князь Михаил Андреевич и его княжество оказалось выморочным.
Как таковое, оно должно было быть присоединено к великому княжеству
Владимирскому. Последним в то время владел Михаил Ярославич Тверской. Однако
Юрий Московский — злейший враг Михаила — опасаясь усиления соперника, сумел
добиться сохранения самостоятельности выморочного княжества, посадив на местный
стол своего брата. Эта акция Юрия и вызвала военные приготовления старшего сына
Михаила Ярославича Дмитрия и стоявшего за его спиной тверского и владимирского
боярства (самому Дмитрию было тогда 12 лет), поскольку действия Юрия
серьезнейшим образом нарушали и традицию, и великокняжеские интересы Михаила
Ярославича с его окружением. Выступление Дмитрия Тверского было, как известно,
парализовано митрополитом Петром. С его помощью московские князья смогли
закрепиться в Поволжье [88], причем стольным городом новой
династии вместо Городца стал Нижний Новгород. Территория же княжества,
по-видимому, осталась неизменной.
Итак, приведенные факты говорят о том, что в течение первых
двух десятилетий XIV в. в Среднем Поволжье функционировало особое княжество
сначала с центром в Городце, а примерно с 1311 г . — с центром в Нижнем
Новгороде. Пределы этого государственного образования можно очертить весьма
схематично на основании некоторых данных второй половины XIV—XV вв.
Согласно договору великого князя Василия Дмитриевича с серпуховским князем Владимиром Андреевичем, заключенному около 1401—1402 гг., к Городцу относились следующие волости: Белогородье, Юрьевец, Корякова слобода, Чернякова, и также унжинская тамга [89]. В составленной несколько позднее духовной грамоте Владимира Серпуховского кроме только что перечисленных городецких волостей указаны Пороздна и Соль, а также безымянные станы на левом берегу Волги выше Городца и на правом берегу реки ниже Городца [90].
Из всех названных городецких волостей начала XV в. легче всего определяется местоположение Юрьевца. Речь идет о Юрьевце Повольском, стоявшем на правом берегу Волги, и административно подчиненной ему территории. Что касается Белогородья, Коряковой слободы, Черняковой, Пороздны и Соли, то их локализация сопряжена с известными трудностями.
В.Н.Дебольский полагал, что Белогородье лежало где-то по Волге ниже Городца, но «точно указано быть не может» [91]. Предположительно за центр волости — древний Белгород — исследователь принимал с.Белово Балахнинского уезда Нижегородской губернии [92]. Относительно Коряковой слободы и Черняковой В.Н.Дебольский писал, что первая из них лежала в 63 верстах от Макарьева Костромской губернии, а вторая — в той же губернии, в 40 верстах от Кинешмы. Село Пороздна В.Н.Дебольский идентифицировал с современным ему селом Пороздна, стоявшим в 52 верстах от Юрьевца Повольского [93]. Очевидно, что локализации были произведены В.Н.Дебольским по Списку населенных мест Костромской губернии на основании сходства древних названий с названиями XIX в. [94].
По писцовым книгам XVII в. Ю.В.Готье определил положение Коряковой слободы: по левому берегу Волги против Юрьевца и вверх по течению Унжи примерно до впадения в Унжу р.Ней [95]. Вывод Ю.В.Готье несколько уточнил М.К.Любавский. Он помещал Корякову слободу в низовьях Ней и по правому берегу Унжи [96]. Кроме того, исследователь указал, где находилась Чернякова: «между Елнадью и Волгою», и Пороздна: «к югу от Черняковой» [97]. Здесь М.К.Любавский по сути дела повторил В.Н.Дебольского. С предложенными исследователями последними двумя локализациями следует согласиться. Определенные ими Чернякова и Пороздна вполне вписываются в тот ареал городецких земель, который может быть обрисован по данным начала XV в. Правда, следует иметь в виду, что локализации произведены по весьма позднему источнику — Списку населенных мест Костромской губернии. Только касательно Коряковой слободы нужно добавить, что, по сведениям XVII в., ее территория заходила и на левый берег Унжи. К Коряковой слободе относились, в частности, Никольский погост на р.Вилешеме — правом притоке р.Курдюги, починок (позднее — село) Соболево на р.Юмчищи (Юнчищи) — левом притоке Унжи, земли по рекам Курдюге — левому притоку Унжи, Шемахте, Борисовке и Родинке — левым притокам р.Виргасовки, самой Виргасовке — левому притоку Унжи [98].
Местоположение Белогородья, так и не выясненное до сих пор
исследователями, изучавшими историческую географию средневековой Руси,
определяется на основании ряда свидетельств довольно ранних источников. Так, в
Тверском летописном сборнике сохранился рассказ о нападении в 1408 г . на нижегородские
земли одного из отрядов ордынского темника Едигея. Захватив Нижний Новгород,
монголо-татары двинулись вверх по Волге на Городец, взяли и этот город, а далее
«поидоша отъ Городца въверхь по ВьлзЪ, воюючи обЪ странЪ, и быша въ
БЪлогородия... хотЪша ити на Кострому н на Вологду» [99].
Из приведенного текста выясняется, что Белогородье было расположено на Волге,
или близ нее, выше, а не ниже, как думал В.Н.Дебольский, Городца. Согласно
завещанию серпуховского князя Владимира Андреевича Белогородье должно было
отойти его второму сыну Семену [100]. Но земли по левому
берегу Волги выше Городца предназначались третьему сыну князя Владимира
Ярославу [101]. Следовательно, Белогородье не могло быть
выше Городца на левом берегу Волги. Оно должно было находиться на правом берегу
реки к северо-западу от Городца. Такое заключение может быть подкреплено еще
одним соображением. Показательно, что именно в северо-западном направлении от
волжского Городца намеревался двигаться в 1408 г . отряд монголо-татар,
захвативший Белогородье и предполагавший напасть на Кострому и Вологду.
Сделанный на основании данных начала XV в. вывод о
местоположении Белогородья полностью подтверждается более поздним материалом.
По писцовому описанию 1619 г .
писцов И.Житкова и подьячего И.Дементьева, Белогородская волость Нижегородского
уезда была расположена по правому берегу Волги, к северу от впадения в нее Юга,
далее вверх по Волге выше с.Катунок, по правым притокам Волги рекам Троце и
Санехте (Санахте), а также по левому притоку Троцы р.Дорку [102].
Упомянутая в духовной грамоте князя Владимира Андреевича
Серпуховского «Соль на Городце» также до сих пор не была локализована.
А.Л.Хорошкевич посчитала даже, что «судьба Соли на Городце неизвестна,
вероятно, соль добывалась здесь в незначительных количествах и недолго» [103], из чего можно заключить, будто само поселение быстро
прекратило свое существование. Между тем есть все основания видеть в Соли на
Городце начала XV в. позднейшую Балахну. Балахна была расположена всего лишь в 18,5 км от Городца ниже по
Волге, но на противоположном, правом, берегу [104].
А волжское правобережье ниже Городца было заселено уже к началу XV в. Владимир
Серпуховский завещал своему сыну Семену «станы на сей сторонЪ Волги, пониже
Городца» [105]. Выходы соли на освоенной территории не
могли, конечно, остаться незамеченными. Близ них и появилось поселение Соль,
позже названное Балахной.
Итак, локализация упоминаемых в источниках начала XV в. городецких волостей доказывает, что к древнему Городцу относились земли по нижнему течению Унжи, включая, видимо, сам город Унжу, правому притоку Унжи р.Нее, левым унжинским притокам рекам Курдюге и Виргасовке, земли по правому берегу Волги от р.Елнати до Балахны включительно, на западе ограничивавшиеся скорее всего течением Луха, а также земли по левому берегу Волги от унжинского устья до Городца. Возможно, они простирались и далее по волжскому левобережью за р.Узолу. Дело в том, что в XVI в. известна Заузольская волость, расположенная по левому берегу Узолы [106]. Название и местоположение волости показывают, что заселялась она из Городца: именно для жителей Городца земли до левобережью Узолы были «за Узолой». Однако нет твердых фактов, позволяющих установить, осваивались ли прилежащие к Узоле земли в начале XIV в. или позднее. Надежды здесь приходится возлагать почти исключительно на археологию.
Относившиеся, по данным XV в., к Городцу земли составляли лишь часть территории Городецкого (несколько позднее — Нижегородского) княжества начала XIV в. Другой частью этой территории были земли, прилегавшие к Нижнему Новгороду. Размеры последних в начале XIV в. были, по-видимому, невелики.
Судя по актам конца XIV—XV вв., самой западной
нижегородской волостью была Гороховецкая. Так, в жалованной тарханной и
несудимой грамоте, выданной около 1418—1419 гг. нижегородским князем
Александром Ивановичем суздальскому Спасо-Евфимьеву монастырю, названы
несколько деревень «в моей вотчине, в Ноугородском княжении, в Гороховце» [107]. По жалованной данной грамоте от 22 декабря 1485 г . великого князя Ивана
III Спасо-Евфимьев монастырь получил к своим прежним угодьям ряд новых «в
Нижегородц[к]ом уезде, в Гороховской волости» [108].
Наконец, согласно жалованной грамоте митрополита Симона от 15 января 1496 г ., податные льготы
были предоставлены церкви Василия Кесарийского в одноименном монастыре «на
ГороховцЪ в десятинЪ Нижнего Новаграда» [109]. Приведенный
материал показывает, что в XV в. как светское, так и церковное административные
деления относили Гороховец и его волость к Нижнему Новгороду. Характерно, что и
древнейшая (конца XIV — начала XV в.) из сохранившихся грамот на гороховецкие
земли была выдана нижегородским князем Даниилом Борисовичем [110].
Все это дает определенные, хотя и не бесспорные, основания считать, что и в
начале XIV в. Гороховец был нижегородским [111].
В XV в. к гороховецким землям относили два озера Сала [112] и устье р.Клязьмы [113]. На
картах XVIII—XIX вв. оз.Сало показано в пойменном левобережье Клязьмы, примерно
в 2 км от
впадения в нее Луха [114]. Поскольку на Лухе стояли езы
рыболовов владимирской Ярополчской волости [115],
становится очевидным, что граница между Ярополчем и Гороховцом проходила по
Луху. Земли по течению Клязьмы ниже луховского устья вплоть до впадения Клязьмы
в Оку были гороховецкими.
Как далеко простирались в начале XIV в. эти земли к северу
и к югу от нижнего течения Клязьмы, сказать трудно. Во всяком случае, в XV в. клязьминское
левобережье было освоено не более, чем на 10 км от реки [116].
Вероятно, на несколько большее расстояние было освоено правобережье нижней
Клязьмы. Но в целом населенные гороховецкие земли в начале XIV в. тянулись,
скорей всего, узкой лентой по берегам Клязьмы. К ойкумене прилегали, возможно,
значительные пустынные пространства, по которым проходили границы княжеств и
волостей, т.е. государственная территория превышала освоенную. Однако
категорично настаивать на этом нельзя ввиду отсутствия точных данных.
«Ленточный» вид нижегородской территории, видимо, не менялся и по мере приближения к Нижнему Новгороду. Даже из сведений, которые могут быть возведены самое раннее к концу XV в., следует, что земли от Оки до оз.Пырского (к северу от Оки) и до р.Ворсмы (правого притока Оки) были освоены слабо. Здесь рос «хоромный, красный и черный раменный и дровяной лес» [117]. Ясно, что в начале XIV в. контролируемая из Нижнего Новгорода территория тянулась вдоль Оки. Только около самого города эта территория, возможно, несколько расширялась к югу.
Вниз по Волге нижегородские земли в указанное время
достигали, видимо, правого притока Волги р.Сундовити [118],
или Сундовика, как она называется теперь. В 1958 г . А.Н.Насоновым был
опубликован летописный текст, где сообщалось о покупке нижегородским гостем
Тарасием Петровым шести сел у князя Муранчика [119].
Тарасий Петров, по свидетельству того же источника, жил во времена
нижегородских князей Константина Васильевича и Дмитрия Константиновича, т.е.
между 1341 и 1383 гг. «И какъ запустелъ Новъгород от татар» [120],
Тарасий съехал в Москву. В указанный промежуток времени монголо-татарам дважды
удавалось захватывать Нижний: 5 августа 1377 г . и 24 июля 1378 г . [121]
Очевидно, после этих нападений Тарасий Петров и оставил Нижний Новгород. В
таком случае его покупки должны датироваться временем между началом 40-х и
концом 70-х годов XIV в., скорее всего — 60—70-ми годами XIV в., когда
активизировалась восточная политика Нижегородского княжества [122].
Тарасий Петров приобрел у князя Муранчика села Салово, Городище, Хреновское,
Запрудное, Халяпчиково и Мунарь [123]. Из них три села
сохранились и в XIX в. Села Салово и Городище стояли на правом берегу
Сундовика, село Мунарь (Мунари) — на р.Мунарке, правом притоке Сундовика [124]. Судя по имени, прежний владелец этих сел, князь
Муранчик, принадлежал к местным мордовским князьям [125].
Если до 60-х годов XIV в. землями по правому берегу Сундовика владел мордовский
феодал, есть веские основания считать, что в начале XIV в. контролируемая
Нижним Новгородом территория не переходила за Сундовик. Для того времени эту
реку можно считать пограничной.
Таким образом, на основании свидетельств второй половины
XIV—XV в. ретроспективно очерчиваются примерные границы Городецкого (с 1311 г . — Нижегородского)
княжества начала XIV в. Территория княжества включала в себя земли по обоим
берегам нижнего течения Унжи вместе с г.Унжой, земли по правому притоку Унжи
р.Нее, левым унжинским притокам рекам Курдюге и Виргасовке, правобережные и
левобережные волжские земли примерно от устья Елнати до устья Сундовика, нижние
течения рек Клязьмы и Оки. На западе земли княжества доходили, вероятно, до
Луха.
После смерти в 1320 г . князя Бориса Даниловича Нижегородское
княжество было присоединено к великому княжеству Владимирскому. Так
продолжалось до 1328 г .,
когда нижегородские земли в качестве составной части владимирских были отданы
ханом Узбеком ничего не значившему в политическом отношении суздальскому князю
Александру Васильевичу [126]. Под властью представителя
суздальского дома впервые оказались и Суздаль, и Нижний Новгород с Городцом.
Однако 1328 г .
нельзя признавать «моментом образования территории Нижегородского княжества»,
как в свое время считал А.Е.Пресняков [127]. А.Н.Насонов
правильно отметил, что в 1328
г . нижегородская территория не была выделена из состава
владимирской [128]. Нижний Новгород и Городец были получены
Александром Суздальским вместе с Владимиром и Переяславлем. После смерти
Александра в 1331 г .
[129] эти приданные к Суздалю центры были изъяты из владений
суздальских князей и отданы ханом Узбеком Ивану Калите [130].
Воссоединив, таким образом, в своих руках всю территорию Владимирского великого
княжества, Иван Калита управлял ею с помощью наместников. Ими могли быть и его
сыновья. Так, думается, следует интерпретировать летописное указание под 1340 г . о пребывании в
Нижнем Новгороде старшего сына Ивана Калиты Симеона Гордого, вероятно ввиду
каких-то местных событий даже не попавшего на похороны отца [131].
Факт пребывания в Нижнем Симеона Ивановича нельзя ни признавать случайным, как
это пытался делать А.Е.Пресняков [132], ни видеть в нем
свидетельство княжения Симеона в Нижнем Новгороде, к чему в свое время
склонялись П.И.Мельников и Н.И.Храмцовский [133].
Прав А.Н.Насонов, полагая, что нижегородские земли (в составе владимирских) до
смерти Ивана Калиты находились под его властью [134].
Да и сохранившиеся известия о Симеоне за 30-е годы XIV в. рисуют его не
самостоятельным нижегородским князем, а верным помощником отца, его преемником
на московском и, при благоприятных условиях, владимирском столах [135].
Нижегородское великое княжество было сформировано после
смерти Ивана Калиты и в результате прямого воздействия Орды [136].
Ярлык на Нижний Новгород получил в 1341 г . суздальский князь Константин Васильевич
[137]. Так в Северо-Восточной Руси возникло новое
государственное образование с обширной территорией, сложившейся из земель
бывшего Суздальского и бывшего Нижегородского (ранее — Городецкого) княжеств.
Столицей четвертого по счету северо-восточного русского великого княжества стал
Нижний Новгород [138].
Перенос сюда столицы Константином Васильевичем из
вотчинного Суздаля, сосредоточение в Нижнем Новгороде феодального аппарата
власти, аккумуляция знати способствовали подъему города. Данные о нижегородском
ремесле и торговле в 40—70-х годах XIV в. тщательно собраны и проанализированы
А.М.Сахаровым [139]. Полученная им картина весьма
красноречива. Среди нижегородских ремесленников были представители таких
сложных средневековых профессий, как литейщики колоколов, золотильщика по меди,
архитекторы и каменщики [140]. Летописный рассказ 1366 г . упоминает восточных
купцов, торговавших в Нижнем Новгороде [141]. Особо следует
подчеркнуть тот факт, что Нижний Новгород был вторым после Москвы городом
Северо-Восточной Руси, где приступили к строительству каменного кремля [142]. В нижегородском Спасском соборе при Константине
Васильевиче началось ведение летописных записей [143].
Новое княжество и его столица стали одними из самых значительных на русском
Северо-Востоке, а нижегородский князь начал играть крупную политическую роль не
только на Руси, но и во всей Восточной Европе. Константин Васильевич сумел
породниться с великим князем Литовским Ольгердом [144].
На дочерях Константина поженились Михаил Александрович Тверской и Андрей
Федорович Ростовский, ставшие впоследствии великими князьями своих княжеств [145]. В 1347
г . нижегородский князь добился учреждения особой
Суздальской епископии [146]. В 1354 г ., когда умер великий
князь Симеон Гордый, Константин Васильевич сделал попытку утвердиться на столе
великого княжения Владимирского, однако Орда его притязаний не поддержала,
отдав предпочтение брату Симеона московскому князю Ивану Ивановичу Красному [147].
После смерти в 1355 г . князя Константина остались четыре его
сына: Андрей, Дмитрий (в крещении Фома), Борис и еще один Дмитрий, по прозвищу
Ноготь [148]. Все они получили уделы, по-видимому,
согласно отцовскому завещанию. Во всяком случае, известия конца 50—70-х годов
XIV в. фиксируют уделы у каждого из братьев. Сама возможность выделения каждому
Константиновичу части в общей отчине, очевидно, явилась определенным
результатом того экономического подъема Нижегородского княжества, о котором
говорилось выше. Какими же уделами владели братья?
Старший, Андрей, наследовал нижегородский стол. Рогожский
летописец свидетельствует, что после Константина Васильевича «сЪдЪ на княжении
сынъ его князь Андреи» [149]. Впрочем, Андрею пришлось добиваться
утверждения своих отчинных прав в Орде. Видимо, зимой, в начале 1356 г . он «прииде изъ
Орды... и сЪдЪ на княжение въ НовЪгородЪ въ Нижьнемь» [150].
Дмитрий-Фома получил Суздаль. Под 1362 г . летопись отметила,
что Дмитрий «пакы бЪжа изъ Володимеря въ свои градъ Суждаль, въ свою отчину» [151].
Его самый младший брат и тезка Дмитрий, по прозвищу Ноготь,
упоминается в летописи с определением «Суждальскыи» [152].
Отсюда можно заключить, что Ноготь также имел владения в Суздале. Сказанное
подтверждается анализом известной «данной» черницы Марины. В настоящее время
можно считать установленным, что документ этот должен датироваться не XIII в.,
как считалось ранее, а 1453 г .
[153]. Специальный разбор «данной» подтверждает высказанную
еще А.В.Экземплярским догадку, что упоминаемый в грамоте князь Дмитрии
Константинович — это Дмитрий Ноготь [154]. Согласно тексту
«данной», Дмитрию принадлежали села Мининское, Романовское и «прикупной» луг
Любоща «подле реки Перли», у «Васильковского мочища» [155].
Село Мининское, в XVI в. превратившееся в пустошь, находилось в двух верстах к
югу от Суздаля, влево от дороги Суздаль — Владимир [156].
Село Романовское по названию отождествляется с позднейшим с.Романовом, стоявшим
на Ирмесе в шести верстах к северу от Суздаля [157].
Луг Любоща был расположен по правому берегу Нерли Клязьминской, ниже
с.Василькова, близ суздальско-владимирского рубежа [158].
Таким образом, указанные в «данной» черницы Марины села князя Дмитрия Ногтя
концентрировались вокруг Суздаля. Лишь «прикупной» луг Любоща был удален от
Суздаля примерно па 16 км .
Другие владения младшего Дмитрия Константиновича определяются, правда отчасти, по отчинам его потомков. Села, деревни, различные угодья, принадлежавшие князьям Ногтевым, упоминаются в некоторых грамотах XV—XVI вв. Так, князю Андрею Андреевичу в 40-е годы XV в. принадлежало с.Коровническое «по старинЪ и съ судомъ». Село являлось «вонтчиной» владельца [159]. И.А.Голубцов, опубликовавший документ, вначале отождествил князя Андрея Андреевича с прапрапраправнуком или с прапраправнуком князя Дмитрия Ногтя Андреем, сыном князя Андрея Васильевича Ногтева [160]. Однако затем исследователь внес поправку, указав, что этот Андрей Андреевич был отцом Василия Ногтя, т.е. правнуком князя Дмитрия Константиновича Младшего [161]. Последнее мнение И.А.Голубцова абсолютно верно. Правнук Дмитрия Ногтя князь Андрей Андреевич внесен в один из древнейших по составу родословцев, сохранившийся в списке 40-х годов XVI в. и обнаруженный несколько лет назад автором этих строк [162]. Бывшая вотчина князя Андрея Андреевича с.Коровническое сохранилось и в XIX в. Оно было расположено на северо-западной окраине Суздаля [163].
Жалованная грамота Ивана III властям суздальского
СпасоЕвфимьева монастыря от 17 октября 1472 г . называет принадлежавшие князю Андрею
Андреевичу Ногтеву «в Суздале... земли Медвежей Угол и с пустошми на реце на
Увоте» [164]. Речь идет о том же лице, которое владело
и с.Коровническим. Медвежий Угол также был селом [165].
И.А.Голубцов, издавший самые ранние документы, в которых речь идет о с.Медвежий
Угол, предположительно отождествил это село с существовавшей в XIX в.
д.Медвежье Ковровского уезда [166]. Отождествление
оказывается неверным. Точно локализовать с.Медвежий Угол позволяют данные
переписной книги 1678 г .
Суздальского уезда. Там упоминаются с.Медвежий Угол и в нем церковь Вознесения [167]. А в Списке населенных мест Владимирской губернии
значится казенное (обычно бывшее монастырское) село «Вознесение, что в
Медвежьем Углу» [168]. Становится очевидным, что
Вознесение — второе название с.Медвежий Угол, полученное им по местной церкви.
Стояло это село на правом берегу Уводи, в ее нижнем течении [169].
К той же реке подходили и другие владения князей Ногтевых.
Сохранилась составленная около 1500—1515 гг. раздельная грамота внуков князя
А.А.Ногтева князей Семена, Ивана и Андрея Васильевичей Ногтевых на вотчину их
отца — Лямпынский Угол. В грамоте указаны границы земель младшего из братьев —
Андрея. Они состояли из трех отдельных участков. В качестве ориентиров названы
реки Ухтахма с Почевинским езом, Сагаленка, Вязьма, Юрьевка, Шереш, Черная,
Уводь, близ которой был «остров» Сингорь; болота Сагалинское, Бологовское,
Юрьевское, Козинское, Березово, плав Развоевский; заводь Долгая, Инеульское
устье, овраг Корцовский, луг Манков; деревни и селища Масловская, Старое и
Новое Лямцыно, Селышки, Бологово, Змеинское, Яковля (Яковльское), Строиково,
Селышко Круглое, Щитниково (Щитниче), Бушманово, Шереш, Борщовово, Малое Голубпово
[170]. И.А.Голубцов считал, что Лямцынский Угол получил свое
название от д.Лямцыно, в XIX в. числившейся в Нерехотском уезде Костромской
губернии [171]. Владения же князя А.В.Ногтева он
локализовал значительное южнее этого Лямцына, в нижнем течении рек Уводи и
Вязьмы [172]. Действительно, основной массив владений
князя А.В.Ногтева простирался от стоявшей на правом берегу Ухтомы (Ухтахмы), в
ее нижнем течении, д.Масловской до расположенной на левом берегу р.Вязьмы
д.Бологово, далее вниз по Вязьме, от нее обратно на восток к Козинскому болоту,
далее к деревням Яковле (Яковльскому), Щитникову (Щитничу) и к р.Ухтоме
(Ухтахме), где был «забит» ез крестьян д.Почевиной [173].
Второй участок владений князя Андрея Васильевича был расположен ниже первого по
р.Вязьме и не на левом, а на правом берегу этой реки. В раздельной грамоте
упоминаются д.Бушманово и р.Шереш [174]. На карте 1812 г . показаны стоявшая на
правом берегу Вязьмы д.Бушмаково и к югу от нее правый приток Вязьмы р.Авереш [175]. Несмотря на некоторую разницу в названиях (возможно,
что на карте просто описки в наименованиях), становится очевидным, что речь в
грамоте начала XVI в. идет о владении, расположенном в районе зафиксированных
источником XIX в. д.Бушмаково и р.Авереша. Наконец, третий участок князя
А.В.Ногтева — «остров на рЪкЪ на Увоти Сингорь» [176]
— И.А.Голубцов совершенно правильно поместил на р.Сингори, впадающей слева в
р.Уводь, в 12—13 км от устья последней [177]. Таким образом,
владения князя А.В.Ногтева были расположены по нижнему течению рек Уводи,
Вязьмы и Ухтомы (Ухтахмы). Поскольку они составляли лишь часть отчины его отца,
можно думать, что в свое время князь Василий Ногтев владел землями и по
среднему течению названных рек. Однако сомнительно, чтобы вотчины Ногтевых
включали в себя нерехотское Лямцыно, как полагал И.А.Голубцов. Старое и Новое
Лямцыно упоминаются в раздельной грамоте 1500—1515 гг. при фиксации границы
части князя А.В.Ногтева от д.Масловской до д.Бологово [178].
Очевидно, названия этих Лямцыных, теперь уже не сохранившихся, следует
связывать с наименованием всей местности — владения братьев Ногтевых —
Лямцынским Углом, а не нерехотского Лямцына.
Итак, рассмотрение актов XV—XVI вв. убеждает в точности летописного определения князя Дмитрия Константиновича Ногтя как князя именно суздальского. Данные актового материала позволяют говорить о том, что удел самого младшего из сыновей Константина Васильевича Нижегородского состоял как минимум из отдельных сел и угодий в суздальской городовой округе и обширных пространств по среднему и нижнему течению рек Уводи, Вязьмы и Ухтомы.
Выяснив географию владений трех из четырех
Константиновичей, сравнительно легко определить и отчину их брата Бориса.
Следуя методу исключения, можно придти к выводу, что Борису должен был
принадлежать Городец с волостями. Такую мысль уже высказывал А.В.Экземплярский,
а вслед за ним А.Е.Пресняков [179]. Однако весомых
доводов в пользу этого заключения ни у того, ни у другого исследователя не
было. Между тем, даже если не прибегать к приему исключения, в распоряжении
историков есть один забытый источник, данные которого подтверждают
предположение А.В.Экземплярского и А.Е.Преснякова. Речь идет о Поучительном
Послании митрополита Алексея церковникам и прихожанам «всего предала
Новгородьского и Городецьского», составленном, как справедливо полагал его
издатель К.И.Невоструев, в момент захвата Борисом великокняжеского стола в
Нижнем Новгороде [180]. Поскольку Послание адресовано не
только нижегородцам, власть над которыми узурпировал Борис, но и городчанам,
становится очевидным, что до своего перехода в Нижний Новгород в 1363 г . Борис владел
Городцом. (См. рис.7).
Рис.7. Нижегородское великое княжество в 60-е годы XIV.
Произведенная локализация владений всех четырех сыновей Константина Васильевича позволяет сделать некоторые выводы. Прежде всего становится очевидным, что сформировавшиеся в конце 50 — начале 60-х годов XIV в. уделы Нижегородского княжества опирались на ту более раннюю административно-территориальную структуру, которая была присуща Нижегородскому (Городецкому), отчасти Суздальскому княжествам поры их раздельного существования. Такая преемственность обеспечивала определенную стабильность владениям сыновей Константина Васильевича, однако полного тождества между территориями уделов и городов с волостями первого десятилетия XIV в. не было. Материалы XV—XVI вв. показывают, что удельное членение нижегородской территории было достаточно прочным. В свое время А.Е.Пресняков писал о невыработанности форм внутреннего «удельного» строя Нижегородского великого княжества, объясняя это бурной и скоротечной судьбой данного государственного образования [181]. Теперь, привлекая новые факты, можно констатировать, что это не так. Несмотря на напряженные условия своего внешнего существования [182], Нижегородское княжество сохраняло свою систему деления на уделы. В этом отношении оно развивалось так же, как и другие крупные государственные образования Северо-Восточной Руси.
Впрочем, феодальный раздел Нижегородского княжества на
первых порах не помешал нижегородским князьям продолжить ту борьбу за великое
княжение Владимирское, какую начал их отец Константин Васильевич.
Воспользовавшись малолетством московского князя Дмитрия Ивановича и, как можно
думать, недовольством Орды политикой его отца великого князя Ивана Красного,
Владимирское великое княжение захватил Дмитрий-Фома Суздальский. Получив ярлык
у хана Ноуруза (Науруса), князь Дмитрий 22 июня 1360 г . был торжественно
посажен на владимирский стол [183]. Она занимал его в
течение двух лет, пользуясь поддержкой своего старшего брата Андрея Нижегородского,
ростовского князя Константина Васильевича и Новгорода Великого [184].
В 1362 г .
Дмитрий Московский (точнее, его окружение, поскольку самому Дмитрию было тогда
12 лет) добился у очередного ордынского хана Мюрида (Амурата) ярлыка на
Владимирское великое княжение. Суздальский князь пытался удержать Владимир за
собой, но был выбит оттуда московскими войсками. Весной или летом 1363 г . Дмитрий
Константинович с помощью монголо-татар вновь сел во Владимире, но продержался
там только неделю. Москвичи «прогна его пакы съ великаго княжениа» и даже
осадили в отчинном Суздале. Дмитрий вынужден был просить мира [185].
Между тем в самом Нижегородском княжестве произошли
неожиданные события. Третий из Константиновичей князь Борис Городецкий,
воспользовавшись тем, что старший брат Андрей, видимо, устранился от управления
[186], а другой брат Дмитрий-Фома втянулся в борьбу за
владимирский стол, захватил в 1363
г . Нижний Новгород [187].
Под его властью оказались земли городецкого и нижегородского уделов, т.е.
большая часть территории княжества. Попытка Дмитрия уговорить Бориса уступить
ему как более старшему Нижний Новгород успеха не имела. Между братьями назревал
вооруженный конфликт. В этих условиях Дмитрий-Фома вынужден был окончательно
отказаться от соперничества с московским князем за великое княжение
Владимирское и более того — просить у него помощи против Бориса [188].
Дипломатическое вмешательство Москвы о «подЪлЪ» Нижегородского княжества между
братьями не дало результата [189]. Тогда Дмитрий
Московский послал свои рати в помощь Дмитрию Суздальскому. Но до кровопролития
дело не дошло. Борис встретил брата у Бережца (село на левом берегу Оки,
несколько выше устья Клязьмы), «кланяяся и покаряяся и прося мира» [190]. Покорность привела к миру. Братья «подЪлишася
княжениемь Новогородскымъ», причем Дмитрий «сЪде на княжении въ НовЪгородЪ въ
Нижнемъ, а князю Борису... вдасть Городепь» [191].
В итоге к концу 1364 г . политическое положение внутри
Нижегородского княжества стабилизировалось, хотя и произошло перераспределение
территорий. Нижний Новгород перешел к Дмитрию-Фоме Константиновичу. За ним же
сохранился его прежний суздальский удел. Часть суздальских земель осталась за
Дмитрием Ногтем, а городецкие — за князем Борисом. Помимо Городца, источники
фиксируют у Бориса владения на восточной окраине Нижегородского княжества. Что
же принадлежало здесь Борису?
Летописные известия за 60—70-е годы XIV в. показывают, что
к названному времени территория Нижегородского княжества значительно выросла в
восточном и юго-восточном направлениях от Сундовика. Под 1361 г . в летописи отмечено,
что бежавший от смут в Орде некий Секиз-бий «Запиание все пограбилъ и, обрывся
рвомъ, ту сЪде» [192]. Приведенный текст свидетельствует о
том, что Запьяние не было ордынской территорией, оно могло принадлежать или
нижегородским, или мордовским князьям. Сделать выбор позволяет летописная
статья 1375 г .
В ней дважды говорится о том, что монголо-татары Мамая убили боярина Парфения
Федоровича «и Запиание все пограбиша» [193], или что они «за Пианою
волости повоевали, а заставу Нижняго Новагорода побили» [194].
На основании этих слов делается ясным, что Запьяние входило в состав
Нижегородского княжества.
Локализовать Запьяние позволяют данные статей 1364 и 1375
гг. Рогожского летописца и статьи 1408 г . Тверского сборника. В первой из них
сообщается о море, который поразил людей «въ НовЪгородЪ въ Нижнем[ъ] и на
уездЪ, и на Сару, и на Киши, и по странамъ, и по волостемъ» [195].
Речь идет о местностях («странахъ») и административных единицах («волостехъ»)
Нижегородского княжества [196]. В их число входили
Сара и Кишь. Последняя вторично упоминается в Рогожском летописце под 1375 г . Перед тем как
ограбить Запьяние, монголо-татары «взята Кишь и огнемъ пожгоша» [197].
Кишь и Запьяние располагались, следовательно, поблизости. В уже цитировавшемся
рассказе Тверского сборника о нападении монголо-татар на Нижний Новгород,
Городец и Белогородье в 1408
г . описывается их отступление из нижегородских пределов:
«поидоша отъ Новагорода воюючи Уяды и Березово поле, тако поидоша обаполъ [198] и по лЪсомъ ищучи людей.... и оттолЪ поидоша къ СурЪ,
начаша Суру воевати, Кормышъ пожгоша и Сару Великую пожгоша...» [199].
Путь отхода монголо-татар ясен: от Нижнего на восток до р.Суры, затем на юг
вверх по Суре до расположенного на ней Курмыша. Очевидно, что Сара Великая
находилась сравнительно недалеко от Курмыша на юг или на юго-восток от него.
Итак, устанавливается, что Кишь, Сара (Великая), Запьяние и Курмыш должны относиться к одному географическому району. Поскольку местонахождение Курмыша хорошо известно (на левом берегу Суры, в ее нижнем течении), все перечисленные пункты и местности нужно искать в нижнем течении Суры. Действительно, обращаясь к картографическим материалам, легко обнаружить на картах р.Пьяну, левый приток нижней Суры, другой левый приток Суры — р.Кишу, а на левом берегу Суры выше устья Киши — с.Сара [200]. Последние и надо отождествлять с Кишью и Сарой XIV в. Их география заставляет считать, что Запьянием назывались земли, расположенные к югу от верхнего течения Пьяны. Здесь проходила юго-восточная граница Нижегородского княжества. Восточная же его граница достигала по меньшей мере Суры, а известия 1374 и 1377 гг. о пограблении новгородскими ушкуйниками и ордынским царевичем Араб-шахом (Арапшой) Засурья дают известные основания считать, что и некоторые земли по правому берегу Суры также принадлежали Нижнему Новгороду.
По Суре и были расположены владения князя Бориса
Городецкого. Правда, наиболее раннее известие о них страдает некоторой
географической неопределенностью. Под 1367 г . летопись сообщает, что ордынский князь
Булат-Темир повоевал Нижегородский «оуездъ даже и до Волги и до Соундовити и
села княжи Борисовы» [201]. Очевидно, нападению подверглась
территория между правыми берегами рек Волги и Сундовика, т.е. юго-восточная
часть княжества. Где-то здесь и были расположены «села княжи Борисовы».
Местонахождение этих сел уточняется на основании
летописного известия 1374 г .
о поставлении князем Борисом «cобЪ» города Курмыша на Суре [202].
Много позже, уже после перехода Нижнего Новгорода в руки московского князя,
Борис Константинович выдал жалованную грамоту нижегородскому Благовещенскому
монастырю на «свои рыбные ловли по Суре» и бобровые гоны от впадения в Суру
р.Курмышки до устья Суры [203]. Очевидно, что по
этой реке и были расположены владения третьего из Константиновичей. Получить их
Борис мог или по отцовскому завещанию, или по соглашению 1364 г . с братом Дмитрием.
Последнее представляется более вероятным. Оно конкретизирует летописное свидетельство
о том, что братья «подЪлишася княжениемь Новогородскымъ». Впрочем, как ни
объяснять происхождение владений Бориса Городецкого по Суре, ясно, что
обладание страдавшими от монголотатарских набегов пограничными посурскими
землями делало Бориса заинтересованным в единстве с нижегородским великим
князем, заставляло его следовать в русле местной великокняжеской внешней
политики.
Эта политика в свою очередь во многом определялась
антиордынскимн целями и задачами внешней политики Москвы, с князем которой Дмитрием,
будущим Донским, породнился Дмитрий Нижегородский, выдав за него в начале 1367 г . свою дочь Евдокию [204]. На первых порах союз с Москвой принес нижегородскому
князю определенные выгоды. Его братья послушно ходили под его рукой, а ряд
успешных военных акций против монголо-татар в 1367, 1370, 1374 и 1377 гг.
позволил Дмитрию Константиновичу, видимо, несколько расширить свои владения на
востоке и даже посадить своего ставленника в Булгаре [205].
Но в 1375
г . активные действия против Нижегородского княжества
начал Мамай. В 1375 г .
монголо-татары Мамая, как уже говорилось, сожгли Кишь и пограбили Запьяние. В
августе 1377 г .,
несмотря на помощь Москвы, они вместе с мордовскими князьями вероломно напали
на оплошавших русских воевод, нанесли им страшное поражение на Пьяне [206], а затем «изгоном» взяли Нижний Новгород [207].
Осенью того же года царевич Арапша и осмелевшие мордовские князья воевали на
восточных и южных рубежах Нижегородского княжества [208].
Летом 1378 г .
мамаевы войска вновь неожиданно захватили Нижний Новгород [209].
Участие вместе с Москвой в антиордынской борьбе оборачивалось для пограничного
русского княжества тяжкими последствиями. И хотя в 1380 г . Дмитрий
Константинович еще помог своему зятю (на Куликовом поле сражались суздальские
полки, - хотя не было городецких и нижегородских) [210],
между союзниками назревал конфликт. Когда в 1382г. на Москву двинулся хан
Тохтамыш, Дмитрий Нижегородский выслал ему в помощь двух своих сыновей [211]. Их предательское поведение, приведшее к взятию и
сожжению 26 августа Москвы монголо-татарами [212],
лишило нижегородского князя великокняжеской поддержки.
Это немедленно привело к вспышке междоусобной борьбы и
перераспределению уделов внутри Нижегородского княжества. Уже осенью 1382 г . Борис Городецкий
отправился в Орду [213]. На следующий год туда же прибыл его
сын Иван [214]. Видимо, опасаясь происков Бориса,
Дмитрий Нижегородский в 1383
г . послал к хану своего младшего сына Семена [215]. Но Тохтамыш не спешил с решением. Лишь узнав о смерти
Дмитрия (5.VII.1383 г.), он отпустил на Русь нижегородских князей, передав
Борису Нижний Новгород, а Семену — Суздаль [216].
Опираясь на помощь Орды, Борис вместе с тем вынужден был действовать и в русле
московской политики. Когда в 1386
г . Дмитрий Московский выступил против Новгорода
Великого, Борис принял участие в походе [217]. Между тем старший
сын Дмитрия-Фомы Василий в 1388
г . получил у Тохтамыша ярлык на Городец [218].
Ханская власть все активнее вмешивалась в политическую жизнь княжества. Под
воздействием Орды обычные русские порядки столонаследия здесь сломались. Уделы
продолжали существовать, однако обладание ими зависело теперь целиком от хана.
С этим не могли примириться Василий и Семен Дмитриевичи и их зять Дмитрий
Московский.
В 1388 г .
соединенные силы названных князей осадили Нижний Новгород. Борис Константинович
вынужден был капитулировать. 15 марта 1388 г . был заключен мир, по которому Борис
«съступися» племянникам «волостей Ноугородскыхъ, а [о]ни ему отъступишася его
удЪловъ» [219], т.е., очевидно, Городца и Посурья. Но
как только умер московский великий князь (19.V.1389 г.), Борис Городецкий поспешил
к Тохтамышу [220]. Занятый борьбой с Тимуром, ордынский хан
не сразу помог своему ставленнику. Лишь в 1391 г . Борис вернулся на
Русь и снова сел в Нижнем Новгороде [221]. О судьбе Василия и
Семена Дмитриевичей источники ничего не сообщают. По логике предыдущих событий
можно думать, что они снова обратились за помощью к Москве.
Однако на сей раз дело приняло другой оборот. Нижегородское
боярство, терзаемое постоянными раздорами местных князей, вступило в сношения с
Василием Дмитриевичем Московским [222]. Последний
действовать без санкции хана не решился. 16 июля 1392 г . он отправился в Орду
[223]. Там за громадную сумму он купил ярлык на Нижний Новгород
[224]. В октябре 1392 г . вместе с ордынским послом московский
князь вернулся на Русь. Дойдя до Коломны, Василий Дмитриевич отпустил посла и
своих бояр на Нижний Новгород, а сам направился к Москве [225].
Прибывшие в Нижний монголо-татары и московские бояре с помощью бояр
нижегородских и, видимо, при поддержке горожан (монголо-татары и москвичи
«начаша въ колоколы звонити, стекошася людие») быстро и без кровопролития свели
Бориса с нижегородского стола [226]. 6 ноября 1392 г . в Нижний Новгород
приехал московский князь. Здесь он пробыл довольно долго — семь недель [227]. Когда были улажены все вопросы, связанные с будущим
князей нижегородского дома и административным устройством присоединенной
территории, Василий Дмитриевич вернулся домой. В Нижнем Новгороде начал
управлять московский наместник — Дмитрий Александрович Всеволож [228].
Суверенный нижегородский стол был ликвидирован. Хотя за местными князьями были
оставлены Суздаль, Посурье и, возможно, Городец, они, по-видимому, были лишены
права «ведать Орду», т.е. самостоятельных внешнеполитических сношений, и должны
были стать в подчиненное положение к московскому великому князю. Таким образом,
присоединение к Москве Нижегородского великого княжества не лишило еще целиком
местных князей их уделов. Последние продолжали существовать и в XV в.
Ликвидация политической самостоятельности Нижегородского великого княжества
привела к частичному и неполному внутреннему контролю великокняжеской власти
над его территорией.
1. АСВР, т.2, № 445, с.486.
2. Там же, № 464, с.502.
3. Кучкин В. А. Из суздалъско-нижегородскои топонимии XIV-XV вв. - В кн.: Ономастика Поволжья. Горький, 1971, вып.2, с.146.
4.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .18.
5. АСВР, т.2, № 464, с.502; № 443, с.485.
6. Сборник Муханова. 2-е изд. СПб., 1866, № 286, с.575-576.
7. Владимирская губерния. Список населенных мест. СПб., 1863, с.5, № 66.
8.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .18.
9. Там же; Владимирская губерния. Список населенных мест, с.190, № 5046 (в XIX в. - Мордыш), № 5048 (в XIX в. - Васильки).
10. АСВР, т.2, № 450, с.490.
11. Там же, № 446, с.487.
12. Там же, № 450, с.490
13. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.190, № 5049.
14.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .18.
15. АСВР, т.3, № 92, с.124; № 92 а, с.128.
16. Федотов-Чеховский А. Акты, относящиеся до гражданской расправы в Древней Руси. Киев, 1860, т.1, № 56, с.86.
17.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л . 12. Село Туртинское здесь названо
Туркинским.
18. АИ. СПб., 1841, т.1, № 200, с.366.
19. АСВР, т.2, № 470, с.509.
20. Там же, № 467, с.506, № 473, с.511.
21. Там же, № 456, с.495.
22. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.7, № 136; с.189, № 5036.
23.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .12, 18. Село Тарбаево здесь ошибочно
названо Гарбаевым.
24. АСВР, т.3, № 92а, с.128.
25. Акты Русского государства 1505-1526 гг. М., 1975, № 293, 294, с.292-293; АСВР, т.1, № 315, 316, с.225.
26. АСВР, т.З; № 92, с.124.
27.
Владимирская губерния. Список населенных мест, с.196, №
5222; ЦГВИА, ВУА, №. 21272,
л .12. Из различных написаний названия р.Ирмес
приведенное здесь является древнейшим. См.: АСВР, т.2, № 492, с.532.
28. ДДГ, № 40, с.120.
29. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.196. № 5207.
30.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .12. Название поселения передано
неточно: Шикова слободка.
31. Там же.
32. Горюнова Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья. - МИА СССР, М., 1961, № 94, прил., врезка к карте 4, курганный могильник № 456.
33. ДДГ, № 34, с.88. О дате договора см.: Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.; Л., 1948, ч.1, с.118-120; Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV-XV вв. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1958, вып.6, с.300.
34. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.442. Новый разбор свидетельств о князе Александре Ивановиче дан И.А. Голубцовым. См.: АСВР, т.2, с.565-566.
35. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.441.
36.
Указание в договоре 1434 г . на факт заложения кн.Александром
Ивановичем четырех сел свидетельствует о том, что они были его собственностью,
скорер всего унаследованной.
37.
Владимирская губерния. Список населенных мест с.197, №
5242, ЦГВИА, ВУА, № 21272,
л .12.
38. Любавский М.К. Образование основой государствевяой территории великорусской народности. Л., 1929. с.107 и карта. В тексте своего труда М.К.Любавский отождествил с.Ярышево с с.Ярышево-Звенпово на р.Шуге в одном километре от правого берега р.Ирмеса (Ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.196, № 5212).
39. АСВР, т.2, с.566.
40. Ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.195, № 5185.
41. Там же.
42.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .12. В Списке населенных мест
Владимирской губернии не значится.
43. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, с.173-174; Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974, с.230.
44. Горюнова Е.И. Указ. соч., прил., карта 4а.
45. Несмотря на то что на востоке Суздальское княжество граничило со сформировавшимся в XIII в. Стародубским княжеством, их конкретный рубеж трудно определим из-за недостатка данных.
46. АСВР, т.2, № 463, с.501,500.
47.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .12 (село ошибочно названо. Шатрящи);
Владимирская губерния. Список населенных мест, с.194, № 5158.
48. Там же, с.199, № 5296.
49. АСВР, т.3, № 500 (деловая князей Ногтевых). По филигранографическим данным, документ датируется первыми двумя десятилетиями XVI в., но в акте сказано, что перечисленные в нем земли составляли «вотчину» отца разделивших ее между собой князей. Следовательно, эти земли принадлежали князьям Ногтевым еще в XV в. О местоположении перечисленных в деловой географических объектов речь пойдет ниже.
50.
Древнейшее косвенное упоминание Шартомского монастыря
(шартомского архимандрита Конона) содержится в жалованной грамоте нижегородской
(суздальской) княгини Марии Спасо-Евфимьеву монастырю 1444 г . (АСВР, т.2, № 444,
с.485). Конон присутствовал при составлении этой грамоты как послух. Такое
положение Конона было, очевидно, связано с тем, что его монастырь стоял на
земле потомков суздальских князей.
51. На р.Лух в XV в. существовали езы ярополчских рыболовов (АСВР, т.1, № 362, с.265). Ярополчская волость входила в состав Владимирского великого княжества (ДДГ, № 13, с.38). Рядом с Ярополчем ниже по р.Клязьме стоял Гороховеп - центр одноименной волости (АСВР, т.1, № 200, с.143; № 383, с.241). Гороховепкая волость была нижегородской (АСВР, т.2, № 435, с.479).
52. АСВР, т.3, № 86, с.117-118. Здесь указано, что, кроме с.Весьского, Рождественскому монастырю было дано и что-то «иное». В других актах с.Весьское упоминается вместе с д.Кощеево (Там же, № 92а, с.128). Поэтому есть основания полагать, что с.Весьское было приобретено кн.Юрием Московским вместе с д.Кощеево и затем пожертвовано им владимирскому монастырю.
53. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья... СПб., 1889, т.1, с.63, 68.
54.
Владимирская губерния. Список населенных мест, с.194, №
5167, 5176; ЦГВИА, ВУА, № 21272,
л .12.
55. У с.Весьского обнаружен могильник XI-XIII вв. (Горюнова Е.И. Указ. соч., прил., карта 4, курган № 459). Очевидно, это село существовало в домонгольский период и издавна было владением суздальских князей.
56. АСВР, т.3, № 86; ср.: № 92а. О дате смерти Юрия - 21.XI.1325 - см.: ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.89.
57. ПСРЛ. СПб., 1885, т.10, с.177. Это единственное в русских летописных сводах упоминание кн.Василия Михайловича очень трудно для истолкования. Возможно, он был сыном Михаила (Юрьевича?) Суздальского.
58. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.399-400. Но А.В.Экземплярский, думается, неверно определяет отчество отца этих князей - Андреевич. Вообще исследователь смешивает потомков кн.Андрея Ярославича Суздальского с потомками кн.Андрея Александровича Городецкого.
59. НПЛ, с.92; ПСРЛ, т.18, с.86. Известие восходит, по-видимому, к Троицкой летописи. См.: Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950, с.351 и примеч.3.
60. ПСРЛ. СПб., 1851, т.5, с.204.
61. ПСРЛ. 2-е изд. Пг., 1915, т.4, ч.1, вып.1, с.253.
62.
Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI
вв. М.; Л., 1938, с.152-153. Новгородско-Софийский свод А.А. Шахматов датировал
сначала 1448 г .,
а затем - 30-ми годами XV в. (Там же, с.154, 366).
63.
Новгородско-Софийский свод был составлен на основании двух
источников: общерусского свода и местной новгородской летописи. Последняя
послужила источником и Новгородской I летописи младшего извода (Шахматов А.А.
Указ. соч., с.155-157). В Новгородской I летописи младшего извода статьи 1305 г . о нижегородских
событиях нет (См.: НПЛ, с.322;. Следовательно, это известие попало в
Новгородско-Софийский свод из общерусского источника - свода митрополита Фотия.
64.
Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг.,
1918, с.104, примеч.2; Будовниц И.У. Поддержка объединительных усилий Москвы
населением русских городов: Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню
семидесятилетия. М., 1952, с.119-120; Очерки истории СССР: Период феодализма,
XI-XV вв. М., 1953, ч.2, с.192; Черепнин Л.В. Образование Русского
централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960, с.462. Для И.У.Будовница
ошибочное упоминание летописных сводов о Михаиле Ярославиче, будто бы
действовавшем в 1305 г .
в Нижнем Новгороде, послужило отправной точкой целого исторического построения,
шаткость которого теперь обнаруживается с полной очевидностью.
65. ПСРЛ, т.5, с.204, вар.ж; СПб., 1856, т.7, с.184.
66. Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском, с.111-113,115.
67. ГИМ, собр. А.С. Уварова, № 248(231), л.163.
68.
В другом источнике Воскресенской летописи - Московском
своде 1479 г .
- отчество князя Михаила указано правильно - «Андреевича». - ПСРЛ. М.; Л.,
1949, т.25, с.392.
69. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.225-226.
70. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.388, примеч.1086; с.396 и примеч.1113. Ср.: Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.4, примеч.209.
71. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.340 (примеч.390-393); Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.388, примеч.1086.
72. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.62, примеч.3. Впрочем, отметив путаницу в показаниях Никоновского свода относительно происхождения суздальских и нижегородских князей, А.Е. Пресняков почему-то присоединился к мнению А.В.Экземплярского, основанному именно на противоречивых данных Никоновской летописи.
73. Клосс Б.М. Митрополит Даниил и Никоновская летопись. - ТОДРЛ, Л., 1974, т. 28, с.189.
74. См. гл. 3 настоящего издания.
75. Приселков М.Д. Указ. соч., с.354. В Симеоновской летописи нет слов «столомъ в Володимери», вместо «онъ же» - «князь же» и вместо последних четырех слов - «възвратишася кождо въ свояси»; в остальном текст идентичен приведенному. См.: ПСРЛ, т.18, с.87.
76. Приселков М.Д. Указ. соч., с.354, примеч.1.
77. Карамзин Н.М. Указ. соч., кн.1, т.4, примеч.244.
78. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.217.
79. ПСРЛ, т.7, с.186.
80. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.398, примеч.1115.
81. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.124 и примеч.2.
82.
Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с.96.
Исследователь глухо сослался на Симеоновскую летопись и Рогожский летописец,
однако в последнем известия 1311
г . о пребывании в Нижнем Новгороде Юрия Московского нет.
83.
Новгород указан в Симеоновской летописи и Троицкой (ПСРЛ,
т.18, с.87 и примеч.1). Нижний Новгород - в Софийской I и Новгородской IV, что
ведет к Новгородско-Софийскому своду 30-х годов XV в. и далее к своду 1423 г . митрополита Фотия
(ПСРЛ, т.5, с.205; т.4, ч.1, вып.1, с.255).
84. ПСРЛ, т.5. с.205.
85. ПСРЛ, т.18, с.87; т.5, с.205; т.4, ч.1, вып.1, с.255.
86.
ГБЛ, ф.256, № 364, л .234.
87. ПСРЛ, т.18, с.89.
88.
Княжение в Нижнем Новгороде Бориса Даниловича, а также
пребывание в этом городе в 1311
г . князя Юрия нельзя расценивать как присоединение
Нижнего Новгорода к Москве. Нижегородское княжество оставалось суверенным, но
династические связи могли легко привести к политическому союзу между Москвой и
Нижним.
89. ДДГ, № 16, с.43. О дате грамоты см.: Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы..., ч.1, с.68-71; Зимин А.А. Указ. соч., с.289-290.
90. ДДГ, № 17, с.47, 50.
91. Дебольский В.Н. Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник. СПб., 1902, ч.2, с.2.
92.
Там же; ср.: Нижегородская губерния. Список населенных
мест. СПб., 1863, с.43, № 935. Это единственное Белово, причем не село, а
деревня, зафиксированное в Балахнинском уезде Списком. Оно стояло примерно в 3,5 км к западу от
с.Катунок. В.Н. Дебольский, видимо, даже не справился по карте относительно
местоположения д.Белово. Иначе он бы убедился, что Белово лежит выше Городца, и
его замечание о Белогородье ниже Городца теряет смысл.
93. Дебольский В.Н. Указ. соч., с.2,11.
94.
Костромская губерния. Список населенных мест. СПб., 1877,
с.262, № 7938 (Коряково); с.176, № 5230 (Черняково); с.377, № 11541 (Порздни на
р.Порзднянке). На карте 1793
г . показано с.Малая Порсня на правом берегу р.Порьзни и
на дороге Лух-Юрьевен (ЦГДДА, ф.1356, oп.1, д.1666).
95. Готье Ю.В. Замосковный край в XVII в. М., 1937, с.406.
96. Любавский М.К. Указ. соч., с.94,
97. Там же.
98. Федотов-Чеховский А. Указ. соч., т.1, № 102, с.334, 340, 338, 336, 349, 350; ЦГАДА, ф. 1356, oп.1, д.1677. Никольский Вилешемский погост зафиксирован, очевидно, в Списках населенных мест как деревня Вилеш (См.: Костромская губерния. Список населенных мест, с.239, № 7228). Рядом указаны д.Соболево и с.Пелегово (См.: Костромская губерния. Список населенных мест, с.239, № 7229, 7230).
99. ПСРЛ. СПб., 1863, т.15, стб.484.
100. ДДГ, № 17, с.47.
101. Там же («А сыну, князю Ярославу, станы на оной стороны Волги, повыше Городца...»).
102. ЦГАДА, ф.1209, кн.7512, л.19, 18; 80об. По межеванью 1621/22 г. граница Белогородской волости с волостью Верхний Ландих проходила по верховьям рек Тропы, Дорка и Санехты (ЦГАДА, ф.1209, кн.11321, л.582об. - 584об. Ср.: Там же, ф.1356, oп.1, д.2592, 2593). Составители Списка населенных мест Нижегородской губернии указали на расположенную в 43 верстах от г.Балахны при впадении в Волгу Санехты Васильеву слободу как центр древней Белогородской волости (Нижегородская губерния. Список населенных мест, с.XXII, с.38, № 744). Центром Белогородья Васильева слобода не была, но в состав белогородской территории входила (ЦГАДА, ф.1209, кн.7512, л.2). Древним центром Белогородья был, возможно, расположенный в нижнем течении Санехты погост Спасский, где в XVII в. стояла волостная церковь (ЦГАДА, ф.1209, кн.7512, л.48об.).
103. Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV-XV веках. М., 1963, с.227. Здесь А.Л.Хорошкевич сделала ссылку, причем неточную, на работу А.М.Сахарова, который совершенно ничего не писал о судьбе Соли на Городце. См.: Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. М., 1959, с.64.
104. Нижегородская губерния. Список населенных мест, с.51, № 1146.
105. ДДГ, № 17, с.47.
106.
См. сотную 1560
г . Заузольской волости: Звездин А.И. Материалы по
истории заселения Нижегородского края. - В кн.: Сборник документов
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1908, т.7;
Горьковский областной историко-архитектурный музей-заповедник, д.13309, л.26-36
(отрывок копии XVIII в. сотной 1560
г .).
107. АСВР, т.2, № 435, с.479. Знаки препинания оставлены такие, как в издании.
108. Там же, № 482, с.522.
109. Там же, № 487, с.527.
110. Там же, т.3, № 480; ср. т.2, № 482.
111.
В домонгольское время и после Гороховец относился к
территории Владимирского великого княжества. Он мог быть выделен из
владимирской территории вместе с Городцом в 1263 г . или вместе с Нижним
Новгородом в 1341 г .
Двойственное решение вопроса вызвано тем, что все данные о принадлежности
Гороховца Нижнему Новгороду относятся к периоду после 1341 г .
112. АСВР, т.1, № 95, с.78 (грамота 1432-1445 гг.).
113. Там же, № 94, с.77 (грамота 1432-1445 гг.).
114.
ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.191; ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .20.
115. АСВР, т.1, № 362, с.265.
116.
В цитировавшейся уже грамоте 1418/19 гг. упоминается
относившаяся к монастырю св. Василия в Гороховце д.Старкове (АСВР, т.2, № 435,
с.479). Она была расположена примерно в 6,5 км по прямой от р.Клязьмы. Севернее
Старкова сколько-нибудь значительных поселений не было и в XIX в. (См.: ЦГВИА,
ВУА, № 21272, л .21).
Соображения о времени возникновения Старкова см.: Веселовский С.Б. Топонимика
на службе у истории. - Ист. зап., 1947, вып.17, с.43-46.
117. АСВР, т.3, № 302.
118.
Такое название зафиксировано в древнейшем летописном
сообщении об этой реке под 1367
г . (См.: ПСРЛ, т.15, вып.1. Пг., 1922, стб.85).
Сохранялось оно и в XVI в. (Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века
(1588-1600 гг.). М., 1977, с.19, 55).
119.
Насонов А. Н. Материалы и исследования по истории русского
летописания. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1958, вып.6, с.247; ГБЛ,
ф.173 III, № 146, л .397об.
(по старой пагинации - л.407об.).
120.
ГБЛ, ф.173 III, № 146, л .397об.
121. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.118-119, 133-134.
122. Там же, стб.85, 92, 106, 116-117,
123.
Насонов А. Н. Материалы..., с.247; ГБЛ, ф.173 III, № 146, л .397об.
124. Нижегородская губерния. Список населенных мест, с.95, № 2262, 2257; с.118, № 3477 (указано, что Мунари стоят на Китмере); ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.2642.
125. Предположительно к местным князьям относил Муранчика А.Н.Насонов. - Насонов А.Н. Материалы..., с.247.
126.
НПЛ, с.469. Александр получил «Володимеръ и Поволожье». Это
единственное известие о принадлежности Поволжья суздальскому князю. Еще одно
известие, приведенное А.В.Экземплярским (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2,
с.398. примеч. 1115), оказывается мнимым. Ср.: ПСРЛ, т.10, с.201; НПЛ, с.98,
где новгородцы, участвовавшие в походе на Псков в 1329 г ., вопреки
А.В.Экземплярскому, не нижегородцы, а жители Новгорода Великого.
127. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.261.
128. Насонов А.Н. Монголы и Русь, с.97-98.
129. См. выше, гл. 3 .
130. НПЛ. с.469.
131. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.53.
132. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.262, примеч.1.
133.
Мельников П.И. История Нижнего Новгорода до 1350 г . - Нижегородские
губернские ведомости, 1847, № 4; Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и
описание Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, 1857, ч.1, с.14.
134. Насонов А.И. Монголы и Русь. с.97.
135. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.47, 51, 52 под 6841 и 6847 гг.; ДДГ, № 1, 2; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.1, с.77, 78, 81.
136. Соображения, почему Поволжье было выделено Ордой из территории Владимирского великого княжества, см. выше, гл. 3 .
137. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.54.
138. Там же, стб.54, 64.
139.
Сахаров А.М. Указ. соч., с.66-69. К перечисленным здесь
фактам следует добавить еще один: строительство в 1359 г . каменной церкви
архистратига Михаила (ПСРЛ. М.; Л., 1962, т.27, с.241, 326).
140. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.58, 134, 60, 100.
141. Там же, стб.81.
142. Там же, стб.100. Впрочем, кремль не был достроен.
143. Насонов А.Н. История русского летописания XI - начала XVIII в. М., 1969, с.171-172.
144.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.61, под 6860 г .
145. Там же, стб.60, 61, под 6858 и 6860 гг.
146. Там же, стб.57-58.
147. НПЛ, с.363: ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.286; т.5, с.228; т.27, с.241, 325; т.15, вып.1, стб.63.
148. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.64, 74, 85, 110.
149.
Там же, стб.64, под 6863 г .
150.
Там же, под 6864
г .
151. Там же, стб.72.
152.
Там же, стб.110; Приселков М.Д. Троицкая летопись...,
с.398, везде под 6883 г .
М.Д.Приселков считает, что слова «князь Дмитреи Костянтиновичь Ноготь
Суждальскыи» читались в пергаменной Троицкой летописи, бывшей в руках у
Н.М.Карамзина (Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.398, примеч.3). 1375 год,
под которым встречается имя Дмитрия Ногтя, - не самое раннее время упоминания
этого князя. Впервые Дмитрия Ногтя летопись называет под 1367 г . (ПСРЛ, т.15. вып.1,
стб.85).
153. АСВР, т.3, № 93, с.129, 491-492; Кучкин В.А. «Данная» черницы Марины. - Ист. зап., 1982, вып.108, с.306.
154. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.422-423, примеч.1191; Кучкин В.А. «Данная» черницы Марины, с.307-309,
155. АСВР, т.3, № 93, с.129.
156. ЦГАДА, ф.1209, кн.464, л.114-118об.; кн.11328, л.222-222об.; Влад. Г.В. Заметки по дороге от Владимира до Суздаля. - ЖМВД. СПб., 1847, ч.17, с.309.
157. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.194, № 5156. Это Романовское (Романово) - единственное село с таким названием в Суздальским уезде XIX в.
158. ЦГАДА, ф.1209, кн.11328. л.222. О с.Василькове см. выше.
159. АСВР, т.2, № 441, с.483.
160. Там же, примеч. к акту.
161. АСВР, т.3, с.477, 513.
162. БАН, 17.15.19, л.292,
163.
Владимирская губерния. Список населенных мест, с.194, №
5165; ЦГВИА, ВУА, № 21272,
л .12.
164. АСВР, т.2, № 466, с. 505.
165. Там же («в том их сельце...»); № 497, с.546.
166. Там же, с.605, по «Указателю географических названий».
167.
ЦГАДА, ф.1209, № 11325, л .562.
168. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.106, № 2870.
169.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.202.
170. АСВР, т.3, № 500, с.476.
171. Там же, с.513, комментарий к акту № 500; ср.: Костромская губерния. Список населенных мест, с.281, № 8502. Нерехотское Лямцыно стояло на левом берегу р.Шачи почти при ее истоке (ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.1714).
172. АСВР, т.3, с.513.
173.
Там же, № 500, с.476. Все указанные здесь поселения
сохранились и в XIX в., лишь незначительно изменив свои названия (см.: ЦГВИА,
ВУА, № 21272, л .5,
6).
174. АСВР, т.3, № 500, с.476.
175.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .5.
176. АСВР, т.3, №500, с.476.
177.
Там же, с.513. «Остров» - здесь, скорее всего, участок
бортного леса. См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
СПб.; М., 1881, т.2, с.707. Вполне возможно, что «остров» Сингорь дал начало
одноименному поселению, фиксируемому в материалах XIX в. (ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13; ЦГАДА,
ф.1356, оп.1, д.202; Владимирская губерния. Список населенных мест, с.95, №
2534), так же, как «Лосиный остров» под Москвой со временем превратился в
Лосиноостровскую.
178. «...промеж Старова Лямцина и Нового в Бологовское болото». - АСВР, т.3, № 500, с.476.
179. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.404; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.265 и примеч.3. По догадке А.В.Экземплярского, Борис получил Городец из рук старшего брата Андрея. А.Е.Пресняков считал более логичным получение Борисом Городца по отцовскому завещанию. Последняя точка зрения представляется более верной.
180.
Невоструев К. Вновь открытое поучительное послание святого
Алексия митрополита Московского и всея Руси. - В кн.: Душеполезное чтение. М.,
1861, ч.1, с.452. К.И.Невоструев полагал, что захват Борисом Нижнего Новгорода
произошел в 1365 г .,
и этим годом датировал Послание. Однако названное событие произошло не в 1365,
а в 1363 г .,
что меняет и датировку памятника (Кучкин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское
княжество в XIII-XIV вв. - В кн.: Польша и Русь. М., 1974, с.247 и примеч.100).
181. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.259.
182. Там же.
183. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.69; т.18, с.100.
184.
Там же, т.15, вып.1, стб.69, под 6868 г .; стб.70, под 6869 г .; НПЛ, с.367;
Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV веков). 2-е
изд. СПб., 1882, стб.218.
185. ПСРЛ, т. 15, вып.1, стб.74.
186.
Андрей Нижегородский политически был довольно пассивен. В
1360г. ордынский хан Ноуруз предлагал ему владимирский великокняжеский стол, но
Андрей отказался (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.68, 69). По сообщению Никоновской
летописи, примерно за год до смерти, т.е. в 1364 г ., Андрей постригся в
монахи (ПСРЛ. СПб., 1897, т.11, с.3).
187. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.74; Кучкин В.А. Нижний Новгород..., с.247 и примеч.100. .
188. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.78; Кучкин В.А. Нижний Новгород..., с.247-248.
189. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.78. Издатель Рогожского летописца Н.П.Лихачев совершенно напрасно исправил чтение источника «подЪлЪ» на "то[м] дЪлЪ» (Там же, стб.78, примеч.2). Речь в тексте идет о разделе территории княжества между Дмитрием и Борисом Константиновичами.
190. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.78.
191. Там же.
192. Там же, стб.71.
193. Там же, стб.109.
194. Там же, стб.112.
195. Там же, стб.76.
196. Ср. выражение «въ его области и странЪ, въ нарицаемЪи въ РадонЪжЪ». - Там же, стб.107.
197. Там же, стб.109.
198. Выражение «обаполъ» свидетельствует, что монголо-татары уходили от Нижнего обоими берегами Волги. Березовое поле следует сопоставлять с позднейшим Березопольским станом Нижегородского уезда.
199. ПСРЛ, т.15, стб.484.
200. ЦГАДА, ф.1356, сп.1, д.5200 (реки Пьяна и Киша), 5205 (р.Киша), 5159, 5164 - с.Сара (Николаевское, или Никольское); Симбирская губерния. Список населенных мест. СПб., 1863, с.13, № 312 (с.Сара).
201. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.85.
202. Там же, стб.100.
203.
АФЗ и X, ч.1, с.201-202, № 229. Грамота должна датироваться
8 декабря 1393 г .
204. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.83.
205. Там же, стб.85, 116 (совместные походы нижегородских князей); стб.85, 92, 106 (сражения с монголо-татарами).
206. В литературе почему-то распространено мнение, будто поражение соединенной русской рати на р.Пьяне нанес царевич Арапша (См., например: Повести о Куликовской битве. М., 1959, с.343 (статья М.Н.Тихомирова); Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV вв.). М., 1975, с.91; Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. Л., 1976, с.47). На самом деле русскому войску, ждавшему нападения Арапши, неожиданно ударили в тыл монголо-татары мамаевой Орды (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.118). Сражение началось на р.Паре, правом притоке Пьяны (Там же, стб.119; ср.: Там же, стб.119, примеч.1, где приведены фантастические прочтения и толкование слов «доидоша наши Пару»).
207. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.119.
208. Там же, стб.119-120.
209. Там же, стб.133.
210. Намек на участие суздальских полков в Куликовской битве содержит «Задонщина», указывая на 50 суздальских бояр, павших в сражении. - Повести о Куликовской битве, с.17.
211. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.143; т.18, с.132.
212. Там же, т.15, вып.1, стб.144; т.18, с.132.
213. Там же, т.15, вып.1, стб.147; т.18, с.133.
214. Там же, т.15, вып.1, стб.148; т.18, с.134.
215. Там же.
216.
Там же, т.15, вып.1, стб.149; т.18, с.135. О Суздале как
владении Семена Дмитриевича свидетельствует летописная запись под 1388 г . (Там же т.15, вып.1,
стб.154; т.18, с.137).
217. Там же, т.5, с.241; ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1925, т.4, ч.1, вып.2, с.345 (упомянуты суздальская, городецкая и нижегородская рати). Этот факт заставляет внести коррективы в характеристику Бориса Нижегородского исключительно как марионетку монголо-татар. См.: Насонов А.Н. Монголы и Русь с.137.
218.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.154; т.18, с.137. Василий,
по-видимому, с 1382 г .
находился у Тохтамыша в качестве заложника (Там же, т.15 вып.1 стб.146; ср.:
стб.151; т.18, с.133; ср.: с.136).
219. Там же, т.15, вып.1, стб.154; т.18, с.137.
220. Там же, т.15, вып.1, стб.156; т.18, с.139.
221. Там же, т.15, вып.1, стб.160; т.18, с.141.
222. Заговорщиков возглавил старейший из нижегородских бояр Василий Румянец. - Там же, т.15, вып.1, стб.162; т.18, с.142.
223. ПСРЛ.СПб., 1910, т.23, с.132; т.25, с.219.
224.
Там же, т.15, вып.1, стб.162; т.18, с.142. Летом
предшествовавшего 1391 г .
Тохтамыш потерпел поражение от Тимура {Насонов А.Н. Монголы и Русь, с.138;
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.; Л., 1941, вып.2,
с.117-118) и, видимо, нуждался в средствах.
225. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.162; т.18, с.142.
226. Там же, т.15, вып.1, стб.162-163; т.18, с.142; НПЛ, с.385. Эти древнейшие свидетельства о мирном присоединении к Москве Нижегородского княжества опровергают существующее в литературе мнение о захвате Нижнего в результате военного похода московского князя. (Ср.: Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства..., с.670).
227. ПСРЛ, т.23, с.133; т.25, с.220.
228. Там же.
|
|
|
|
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ТЕРРИТОРИИ ЮРЬЕВСКОГО, ДМИТРОВСКОГО, ГАЛИЦКОГО И СТАРОДУБСКОГО КНЯЖЕСТВ В XIV в.
Предпринятые в предыдущих главах работы локализации волостей и поселений Тверского и Нижегородского княжеств и установление, хотя и примерное, их границ в известной степени помогают определить пределы тех государственных образований на русском Северо-Востоке, которые не играли значительной роли в политическом развитии Руси XIV столетия и сведения о которых, по высказанной причине, носят довольно случайный и малочисленный характер.
На протяжении XIV в. в Волго-Окском междуречье продолжали существовать такие сформировавшиеся в первой половине XIII в. княжества, как Юрьевское, Дмитровское, Галицкое (Галицко-Дмитровское) и Стародубское. Из них первые три утратили свою самостоятельность в том же XIV в. Четвертое княжество — Стародубское — оставалось формально независимым и в XV в., и только в указанном столетии его суверенитет был ликвидирован. К сожалению, в распоряжении исследователей нет или почти нет историкогеографического материала, который прямо относился бы к периоду самостоятельного развития названных княжеств и который позволил бы охарактеризовать их территорию в тогдашнее время. Поэтому для такой характеристики приходится прибегать к косвенным данным и использовать более поздние факты, дающие возможность реконструировать территории Юрьевского, Дмитровского, Галицкого и Стародубского княжеств.
Судить о пространстве, которое занимало Юрьевское княжество
в период правления в нем потомков пятого сына Всеволода Большое Гнездо
Святослава, можно на основании ряда свидетельств духовных грамот московских
великих князей XIV — первой четверти XV в. Так, местоположение упомянутого в
обеих духовных грамотах Ивана Ивановича Красного с.Романовского на р.Рокше [1], относившегося к Переяславлю и отстоявшего примерно на 33 км по прямой на
северо-запад от г.Юрьева, показывает, что на западе граница Юрьевского княжества
не достигала Рокши. Здесь лежали переяславские земли. Названное в духовной
грамоте Симеона Гордого с.Семеновское «Володимерьское волости» находилось блиэ
р.Колачки, или Колочки, — левого притока основной водной артерии Юрьевского
княжества р.Колокши [2]. Следовательно, и на юго-восток
владения юрьевских князей простирались не более чем на 40 км от главного города
княжества. На востоке границы владений юрьевских князей подходили, видимо, к
верхнему течении» Ирмеса, соприкасаясь здесь с суздальскими землями.
Данные о собственно юрьевских селах, перечисленных в
завещаниях московских князей, позволяют несколько четче наметить пределы
Юрьевского княжества. Речь, конечно, должна идти не о всех селах, упоминаемых
Иваном Калитой и его потомками, а лишь о тех из них, которые были наиболее
удалены от стольного Юрьева. К числу последних относится названное во второй
духовной грамоте 1339 г .
Ивана Калиты с.Матфеищевское [3]. Оно было расположено
к северо-западу от г.Юрьева и, согласно данным XIX в., отстояло на 22 версты от
него [4]. В духовной грамоте 1389 г .Дмитрия Донского
фигурируют юрьевские села Богородицкое «на БогонЪ» и Олексинское «на ПЪкшЪ» [5]. Река Богона, или Богана, как она называется на некоторых
картах XVIII в. [6], впадает слева в р.Большой Киржач, в
ее верхнем течении. Река Пекша является левым притоком Клязьмы.
Картографические материалы XVIII—XX вв. фиксируют на Богоне с.Богородское [7], которое с полным правом вслед за В.Н.Дебольским можно
отождествлять с селом Богородицким XIV в. [8]
Это село было расположено на запад от Юрьева и отстояло от него примерно на 32 км . Юго-восточнее
Богородицкого, на Пекше находилось с.Олексинское. Его местоположение выяснил
В.Н.Дебольский, использовавший для идентификации древнего села с современным
ему поселением материалы Списка населенных мест Владимирской губернии [9]. И в этом случае исследователь также был прав. Помимо
завещания 1389 г .
Дмитрия Донского, с.Олексинское упоминается в первой и третьей духовных
грамотах сына Дмитрия Донского великого князя Василия Дмитриевича [10],
что указывает на существование села и в первой четверти XV в. Видимо, под
названием «пустошь Алексина» оно зафиксировано в межевых книгах 1638 г . [11]
Под последним названием, но уже как село, оно занесено в Список населенных мест
Владимирской губернии. Согласно этому Списку, Алексино (древнее Олексинское) на
Пекше отстояло на 20 верст от Юрьева [12].
В свою очередь, восточнее с.Олексинского было расположено относившееся к юрьевской территории с.Богоявленское. Это село впервые упоминается в духовной грамоте серпуховского князя Владимира Андреевича, которую, согласуя различные ученые мнения о времени ее составления, можно с полным основанием отнести к первому десятилетию XV в. [13] Еще С.М.Соловьев отождествлял Богоявленское село в Юрьеве начала XV в. с одноименным селом XIX в. Юрьевского уезда, расположенным на юг от Юрьева [14]. Вывод С.М.Соловьева повторил В.Н.Дебольский, который использовав Список населенных мест Владимирской губернии [15], более точно определил положение древнего Богоявленского — на р.Бавленке, в 13 верстах от Юрьева [16]. Отождествление двух поселений, разделенных промежутком времени в 400 лет, по сходству их наименований не является вполне надежным, хотя в XIX в. в Юрьевском уезде и было единственное село с названием Богоявленье. Однако и другие факты говорят за то, что в данном случае заключение С.М.Соловьева и В.Н.Дебольского было верным. О древности указанного обоими исследователями с.Богоявленского косвенно свидетельствует зафиксированное в XIX в. второе название этого села — Бавленье, а также название реки, на которой стояло Бавленье, — Бавленка. Оба наименования являются стяжением первоначального названия села — Богоявленское, измененного затем в Богоявленье — Бавленье. Такое стяжение обычно происходит при достаточно длительном бытовании топонима. Отсюда и можно сделать заключение, что с.Бавленье — Богоявленье существовало исстари. Предложенный вывод может быть подкреплен прямыми свидетельствами документов XV—XVI вв.
Согласно духовной грамоте Владимира Андреевича
Серпуховского, с.Богоявленское вместе с тремя другими юрьевскими селами —
Варварским, Поеловским и Федоровским — было отдано его второму сыну, Семену
Боровскому [17]. Названия трех из четырех упомянутых сел,
а именно Поеловское, Богоявленское и Федоровское, встречаются в документах
московского митрополичьего дома третьей четверти XV в. [18]
По сообщению летописей, князь Семен Владимирович скончался от моровой язвы в 1426 г . [19].
Видимо, после смерти этого князя некоторые его вотчинные села в Юрьеве перешли
в руки митрополичьей кафедры [20]. Следовательно,
митрополичье село Богоявленское — это прежнее владение Владимира Серпуховского.
Акты, данные великокняжеской властью русским митрополитам, пйсцовые описания
владений последних конца XV — начала XVI вв. позволяют совершенно точно
установить местоположение с.Богоявленского. Земли этого села захватывали
течения рек Кучки и Калинки [21], а вблизи
Богоявленского было расположено селище Семендюково [22].
Все перечисленные географические объекты ведут именно к тому селу Бавленью —
Богоявленью, на какое и указывали С.М.Соловьев и В.Н.Дебольский [23].
Таким образом, устанавливается, что юрьевская территория, по меньшей мере в
начале XV в., простиралась километров на 15 почти на юг от самого Юрьева.
В первой духовной грамоте великого князя Василия
Дмитриевича, составленной во второй половине 1406 г . или в первой
половине 1407 г .
[24], упоминаются юрьевские села Чагино и Иворово [25]. На основании Списка населенных мест Владимирской
губернии В.Н.Дебольский отождествил эти села с одноименными селами XIX в.,
отстоявшими на 21 версту (Чагино) и 17 верст (Иворово) от Юрьева [26].
Хотя в источниках до начала XVI в. оба села не встречаются, предложенная
В.Н.Дебольским идентификация, по-видимому, верна. Юрьевское Иворово —
единственное село с таким названием во всей Владимирской губернии XIX в., а
с.Чагино — единственное в бывшем Юрьевском уезде. Редкость топонимов дает
основание идентифицировать поселения XV и XIX вв. Чагино наводилось к западу от
Юрьева, близ р.Шахи. Иворово располагалось на север от Юрьева и, судя по картам
XVIII—XX вв. [27], представляло собой поселение па границе
ополья с лесом. К северу от Иворова по среднему и нижнему течению р.Селекши и
ее притокам начинались глухие лесистые и болотистые места, где поселений уже не
было. Граница лесного массива служила, вероятно, естественным пределом Юрьевского
княжества, и не случайно, что поселения в данном районе, в частности то же
Иворово, начинают упоминаться только с XV в. В более раннее время они, видимо,
еще не существовали. Появление таких сел в XV в. знаменовало собой расширение
хозяйственно освоенной территории в период, когда Юрьевом уже распоряжались
князья московского дома.
Помимо приведенных данных, есть еще одно свидетельство,
позволяющее наметить пределы Юрьевского княжества. В завещании 1389 г . Дмитрия Донского
упоминается юрьевское Красное село с относящимися к нему селами Елизаровским и
Проватовым [28]. Красное село В.Н.Дебольский ошибочно
помещал близ г.Переяславля [29]. На самом деле это
село стояло рядом с г.Юрьевом [30], примерно в 2,5 км [31]
на северо-запад от него [32]. Однако источники
более поздние, чем упомянутая духовная грамота Дмитрия Донского, не фиксируют
рядом с Красным селом ни с.Елизаровского, ни с.Проватова. Интересен и другой
факт, связанный с поселением, приписанным к Красному селу. В том же завещании 1389 г . великого князя
Дмитрия Ивановича упоминается починок за р.Везкою, который ранее принадлежал
Красному селу, но завещателем был придан к юрьевскому селу Кузьмодемьянскому [33]. Последнее находилось близ г.Юрьева, в двух верстах на юг
от него, на р.Колокше [34]. Следовательно, села Красное и
Кузьмодемьянское были расположены по разные стороны г.Юрьева, но тем не менее
починок одного из них приписывался к другому селу. Это обстоятельство указывает
на то, что оба подгородных юрьевских села в XIV в. были крупными
административными центрами великокняжеского землевладения в Юрьеве и что
приписанные к ним селения совсем необязательно должны были находиться рядом с
ними. Поэтому трудно согласиться с М.К.Любавским, полагавшим, что села
Елизаровское и Проватово вместе с Красным селом стояли рядом с г.Юрьевом [35]. Более приемлемой представляется мысль В.Н.Дебольского,
отождествлявшего село Елизаровское духовной 1389 г . Дмитрия Донского с
известным в XIX в. с.Елизаровым, стоявшим на р.Шахе [36].
Мнение В.Н.Дебольского, правда без ссылки на его исследование, было поддержано
известным переяславским краеведом М.И.Смирновым, который указал, что
с.Елизарово находилось близ границы Переяславского и Юрьевского уездов [37]. Сопоставляя сведения о с.Елизаровском с приведенными
ранее данными о с.Чагине, следует прийти к выводу, что древней западной
границей Юрьевского княжества служила, скорее всего, р.Шаха. Она разделяла
переяславские и юрьевские земли.
В целом произведенная локализация некоторых юрьевских сел,
зафиксированных источниками преимущественно конца XIV — первой четверти XV в.,
показывает, что юрьевская территория в указанное время была небольшой. Так,
очевидно, обстояло дело и раньше, в период самостоятельного существования
Юрьевского княжества. Владения юрьевских князей простирались в радиусе 25-35 км от их стольного города.
Общая площадь Юрьевского княжества едва ли превышала 4000 кв. км, скорее всего,
она была и того меньше. Занимаемая Юрьевским княжеством территория более чем в
пять раз уступала территории, например таких княжеств, как Тверское или
Московское. (См. рис. 8).
Рис.8.
Юрьевское княжество к 1340 г .
Данное обстоятельство в конечном итоге не могло не
сказаться на политической роли в общерусских делах юрьевских князей. И
действительно, их влияние на ход развития Северо-Восточной Руси в XIV в. было
крайне незначительным. Обычно потомки Святослава Всеволодовича выступали
послушными союзниками великих князей Владимирских. А в 1340 г ., или вскоре после
того, Юрьевское княжество, как уже говорилось в главе III, вообще было
присоединено к Владимирскому великому княжению. Впрочем, в составе
великокняжеской территории юрьевские земли сохраняли определенную
обособленность. Эта обособленность выражалась, конечно, не в том, что в Юрьеве
и относившихся к нему селах стала действовать особая великокняжеская
администрация в лице наместника, волостелей, приставов, данщиков и т.п. Такая
администрация была и в других центрах великого княжества Владимирского.
Известное отличие юрьевских земель от остальных великокняжеских проявилось в
той политике, какую проводило в Юрьеве московское правительство. Весьма
симптоматично, что в своем завещании 1389г. Дмитрий Донской наделил юрьевскими
селами всех своих сыновей [38]. Получила земли в
Юрьеве и жена Дмитрия великая княгиня Евдокия [39].
Таким образом, обнаруживается, что в конце XIV в. Юрьев являлся единственной
территорией бывшего великого княжества Владимирского, где имели владения все
наследники Дмитрия Донского. К этому надо добавить, что несколько сел в Юрьеве
принадлежали и главе другой ветви московского княжеского дома — Владимиру
Андреевичу Серпуховскому [40]. Наличие в Юрьеве в
конце XIV — начале XV в. земельных владений всех представителей московской
княжеской фамилии заставляет думать, что великие князья-Калитовичи учитывали в
своей политике неадекватное историческое прошлое Юрьевского и Владимирского
великого княжеств и, опасаясь возможной реставрации Ордой политической
самостоятельности Юрьевского княжества, стремились закрепить юрьевские земли не
за одним каким-нибудь представителем своего дома, а за всем домом в целом, создавая
тем самым коллективную заинтересованность в удержании Юрьева за династией
московских князей.
* * *
К западу от Юрьева, отделенное от него переяславскими и
отчасти московскими землями, лежало Дмитровское княжество. В 1247—1280 гг., а
может быть и позже, это княжество составляло единое целое с Галичем, но
известия XIV в. заставляют считать, что прежнее Дмитровско-Галицкое княжество
распалось надвое. Под 1334 г .
в Никоновской летописи сообщалось, что «преставися во ОрдЪ князь Борисъ
Дмитровьский» [41], а под следующим 1335 г . приводилось краткое
известие о смерти Федора Галицкого [42]. Оба известия,
читавшиеся только в чреватом многими хронологическими и фактическими ошибками
позднем Никоновском своде, могли возбуждать сомнения, но находка в начале XX в.
Рогожского летописца, список которого относится к 40-м годам XV в., устранила
возможные подозрения. В этом памятнике под тем же 1334 г ., что и в Никоновской
летописи, читалось, что «князь Борисъ Дмитровьскыи въ ОрдЪ мертвъ» [43], а под 1335
г . говорилось, что «преставися князь Феодоръ Галицькии» [44]. Наделение в столь раннем источнике, как Рогожский
летописец, соответствующими прозвищами князей Бориса и Федора должно быть
расценено как свидетельство политического раздела Дмитровско-Галицкого
княжества и обособления его центров — Дмитрова и Галича.
Территория, подвластная этим центрам, почти не поддается определению, поскольку достоверные данные о волостях и поселениях, административно подчиненных Дмитрову или Галичу, относятся только (или почти только) к XV в. [45], т.е. к периоду как минимум лет в 50 после потери Дмитровом и Галичем своей самостоятельности. Возможны лишь некоторые попытки наметить пределы обоих княжеств, используя данные о соседних территориях.
Из свидетельств о местоположении московских волостей Сурожик, Мушковой горы, Радонеж и Бели, в свое время завещанных Иваном Калитой своей жене с меньшими детьми, вытекает, что на юго-западе границы дмитровских земель проходили по верховьям рек Маглуши (Малогощи) и Истры, а на востоке и юго-востоке — по верховьям рек Яхромы, Вори и Талицы [46]. На юге дмитровские земли подходили, вероятно, к истокам рек Клязьмы и Учи. В их верховьях стояли села, причислявшиеся к собственно московскому «уезду» [47]. Не следует, однако, забывать, что местоположение названных пограничных с Дмитровом московских волостей и сел определяется по документам XV—XVI вв., т.е. того времени, когда границы дмитровских и московских земель подверглись изменениям. Возможно поэтому, что в первой половине XIV в., когда Дмитровское княжество еще существовало как суверенное государственное образование, его юго-западные, южные и восточные границы не простирались до верховьев указанных выше рек, а были расположены ближе к самому Дмитрову.
С этой точки зрения определенный интерес представляет
география тех дмитровских (по данным XV—XVI вв.) сел, существование которых
можно отнести к XIV в. М.Н.Тихомиров, посвятивший специальную работу истории
дмитровских поселений, полагал, что в XIV в. уже существовали села
Ртищево-Протасьевское и Гавшино. Село Гавшино стояло на р.Яхроме и до наших
дней не сохранилось. М.Н.Тихомиров сближал название Ганшина села с Гавшиным
двором в Москве, упоминаемым в различных летописных сводах под 1368 г . [48]
Кремлевский Гавшин двор был назван так по имени своего владельца, московского
боярина Гавриила Андреевича Кобылы [49]. Если бы ему
принадлежало и указанное М.Н.Тихомировым с.Гавшино на р.Яхроме, то можно было
бы говорить или о границе московских земель с дмитровскими, или о раннем
захвате московскими боярами дмитровских сел. Однако никаких данных о
принадлежности упомянутого села Г.А.Кобыле, кроме совпадения уменьшительного
имени этого боярина с названием села, нет. Топоним же Гавшино был распространен
достаточно широко, чтобы можно было все села с таким названием считать селами
Гавриила Кобылы и на этом основании относить их существование к XIV в.
Но в отношении с.Ртищева-Протасьевского М.Н.Тихомиров был
прав. В 1650 г .
владелец этого села В.М.Ртищев показал, что оно принадлежало роду Ртищевых
«болши полутретьяста лет», т.е. еще с конца XIV в. [50]
Конечно, в абсолютной точности свидетельства вотчинника XVII в. приходится
сомневаться, но тем не менее оно интересно и подтверждает наблюдения, сделанные
С.Б.Веселовским. Последний обратил внимание на то, что некоторые села по р.Уче,
такие, как Даниловское, Федоскино, Семенищево, Аксаково, в XVI в. считались
старинными вотчинами Вельяминовых [51]. Близ указанных сел
было расположено с.Ларево, к которому относились пустошь Воронцово и
д.Фоминская. В их названиях отразились имена представителей того же рода
Вельяминовых. К северу от Ларева на р.Черной Грязи лежала д.Ивановская [52]. Как установил М.Н.Тихомиров, эта деревня, бывшая в XVI
в. селом, располагалась на дмитровской границе и принадлежала Ивану Шадре
(Вельяминову) [53]. С.Б.Веселовский полагал, что весь
очерченный земельный массив исстари был вотчиной рода Вельяминовых. Село
Ртищево-Протасьевское находилось поблизости от этого массива, к северо-западу
от Черногрязского села Ивановского [54]. Возможно, оно также
относилось к старинным владениям Вельяминовых, тем более что родоначальником
последних считался тысяцкий Ивана Калиты Протасий [55].
Если с.Протасьевское принадлежало самому Протасию, тогда нужно признать, что в
первой половине XIV в. московские владения с юга довольно близко подходили к
самому Дмитрову, а территория Дмитровского княжества была меньше территории
Дмитровского уезда XV—XVI вв.
Западные, северные и северо-восточные границы Дмитровского
княжества поры его самостоятельного существования определяются еще более
условно. На западе дмитровская территория захватывала, очевидно, земли по
верхнему течению Сестры и все течение Лутосны и Яхромы. Здесь источники
фиксируют дмитровскую волость Лутосну с отъездцем (духовная грамота 1389 г . Дмитрия Донского) [56], в этом районе проходил дмитровско-кашинский рубеж 1504 г ., о котором подробно
говорилось в главе о территории Тверского княжества. На севере и северо-востоке
пределы Дмитровского княжества ограничивались, вероятно, левобережьем р.Вели и
левобережьем р.Дубны от устья р.Вели до границ кашинской Гостунской волости. На
правом берегу Вели, в ее верховье лежали земли переяславской Мишутинской
волости [57], а далее к северо-западу от Мишутина по
тем же правым берегам Вели и Дубны располагались другие переяславские волости —
Бускутово и Серебож [58]. Таким образом, территория
Дмитровского княжества должна была быть весьма скромных размеров [59].
* * *
Данных о территории Галицкого княжества еще меньше, чем
историко-географических сведений о княжестве Дмитровском. К тому же все они относятся
ко времени, когда Галич стал наследственным владением московских великих
князей. Так, летописи сообщают об аресте в 1381 г . великим князем
Дмитрием Ивановичем переяславского архимандрита Пимена, самовольно добившегося
в Константинополе сана русского митрополита, и ссылке его в Чухлому [60]. Сохранившееся в Ермолинской летописи, в сводах 1497 и
1518 гг. известие о Пимене: «ведоша его... въ Галичь и посадиша его на Чюхлому»
[61], дает основание полагать, что в XIV в. в административном
отношении Чухлома была подчинена Галичу. В 70-х годах XIV в. этой территорией
распоряжался Дмитрий Московский. Но вероятно, что Чухлома входила в состав
Галицкого княжества и ранее, когда последнее еще было самостоятельным [62].
Судя по названию, к Галичу относилась и Соль Галицкая.
В духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Донского упоминаются два села,
Борисовское и Микульское, которые ранее считались костромскими селами, но по
завещанию Дмитрия Ивановича передавались вместе с Галичем его второму сыну Юрию
[63]. Очевидно, оба села находились близ галицко-костромского
рубежа, который, согласно духовному распоряжению 1389 г . московского великого
князя, должен был измениться. С какими же более поздними поселениями можно
отождествлять Борисовское и Микульское XIV в.? Район поисков обоих сел можно
сузить, если принять во внимание не только их весьма вероятное пограничное
положение, но и то, что они, скорее всего, относились к одному определенному
месту. Едва ли Дмитрий Донской «отписывал» к Галичу два никак не связанных
между собой географически костромских села. Речь в духовной этого князя шла,
по-видимому, о каком-то едином комплексе костромских территорий, передаваемых
Галичу. С указанных точек зрения весьма подходящими для локализации древних
Борисовского и Микульского являются позднейшие д.Борисовская и с.Никольское
пограничного с Галичем Шачебольского стана Костромского уезда. Оба поселения
зафиксированы переписной книгой Костромского уезда 1678 г . [64]
Сам факт придачи Дмитрием Донским двух костромских сел к Галичу является показателем того, что в 80-х годах XIV в. галицкая территория была заселена и освоена слабо. По наблюдениям М.Н.Тихомирова, и в значительно более позднее время Галипкий уезд представлял собой лесистое и болотистое пространство с редкими точками селений, группировавшихся главным образом вокруг городских центров [65]. Несомненно, что в период самостоятельного существования Галицкого княжества во главе с потомками Константина Ярославича его население и уровень хозяйственного развития были еще меньше, чем при Дмитрии Донском. Далеко не полностью была освоена и весьма скромная по своим размерам территория Дмитровского княжества. Недостаток людских и материальных ресурсов у галицких и дмитровских князей не мог не сказаться на политическом значении и весе Галича и Дмитрова в общерусских делах.
В последнем отношении весьма показательны записи в двух
псковских рукописях начала XIV в. Одна из книг была написана «Въ лъто 6000-ное,
индикта въ мЪсяца ноября въ 19 день на память святого пророка Авдия... при
архиепископЪ новгородьскомъ ДавыдЪ, при великомь князе новгородьскомь Михаиле,
а пльскомь Ивань Федоровици, а посадниче Борисе...» [66].
Давыд стал новгородским владыкой 20 июля 1309 г . [67] Псковский посадник
Борис умер 1 июля 1312 г .
[68] Следовательно, рукопись была закончена 19 ноября одного
из трех годов: или 1309, или 1310, или 1311. Запись на другой рукописи
несколько моложе. Она помещена в паримейнике и свидетельствует о том, что
работа над ним была завершена «Въ лЪто 6921... мЪсяца майя въ 17 день... при
архиепископЪ ДавыдЪ Новгородьскомь, при великомъ князи МихаилЪ, при князи
Борисоу при Пльсковьскомь, том же лЪтЪ въшьлъ въ Пльсковъ» [69].
Как уже говорилось в главе о территории великого княжества Владимирского, здесь
неправильно проставлена цифра сотен: 900 вместо 800. Паримейник был написан 17
мая 1313 г .,
что подтверждается указаниями записи на тех лиц, во времена которых была
изготовлена рукопись. Из записей следует, что в Пскове между 19 ноября 1309 г . и 19 ноября 1311 г . сидел князь Иван
Федорович, а в мае 1313 г .
городом и волостями управлял князь Борис, причем его правление началось где-то
между 1 марта и 17 мая 1313 г .,
поскольку он «том же лЪтЪ въшьлъ въ Пльсковъ», а началом года в то время
считалось 1 марта. Рассмотрение всех русских князей Иванов Федоровичей и
Борисов, которые могли жить в начале второго десятилетия XIV в., приводит к
заключению, что в записях упоминаются сын скончавшегося в 1335 г . галицкого князя
Федора Иван и умерший в 1334
г . дмитровский князь Борис [70].
Таким образом, выясняется, что уже в начале XIV в. галицко-дмитровские князья
служили в богатом торговом Пскове в качестве наместников великого князя
Владимирского. Очевидно, что при княжении во Владимире Михаила Ярославича
Тверского Дмитровское и Галипкое княжества были поставлены в какую-то
зависимость от великокняжеской власти.
Об ограничении территориальных владений дмитровских князей, а следовательно, и о продолжавшемся упадке их власти, свидетельствует факт покупки села в Дмитрове Иваном Друцким [71]. Князь Иван Друцкий упоминается среди участников похода на Смоленск, организованного Иваном Калитой по приказу Орды. Поход состоялся зимой 1339/40 г. [72] По-видимому, приобретение дмитровского села Иваном Друцким имело место около названного времени. Позднее это село выкупил у друцкого князя Симеон Гордый [73]. Перекупка села говорит о том, что дмитровские князья были не в состоянии восстановить контроль над своей территорией и что этой территорией, по крайней мере ее частями, пытались, и притом успешно, завладеть московские великие князья.
Последние стремились поставить под свое управление также и
территорию Галицкого княжества. Правда, в исторической литературе существует
твердое мнение, что Галицкое княжество вплоть до 1363 г . сохраняло свою
самостоятельность и только в 1363
г . его территория перешла под власть московского
великого князя. Это мнение основывается на приводившейся уже летописной заметке
1335 г .
о смерти галицкого князя Федора, а также на известии 1360 г ., согласно которому
«прииде изо Орды отъ царя князь Дмитрей Борисовичь пожалованъ на княжение въ
Галичь» [74]. Данное сообщение, долгое время читавшееся
только в позднем Никоновском своде, воспринималось исследователями как вполне
достоверное в своей основе и служило показателем непрерывного существования
независимого галицкого стола. Смущало только отчество Дмитрия — Борисович.
Составители средневековых русских родословцев, а вслед за ними и
ученые-генеалоги XVIII—XX столетий считали, что последний самостоятельный князь
Дмитрий был сыном не Бориса, а Ивана, внуком уже упоминавшегося князя Федора.
Поэтому относительно известия 1360
г . Никоновской летописи А.В.Экземплярский, например,
писал следующее: «...принимая в соображение то обстоятельство, что в Никон.
летописи часто встречаются ошибки и в хронологии и в генеалогии, позволительно
усомниться и здесь в правдивости ее известия, тем более, что во всех без
исключения родословных изгнанный из Галича Димитрий считается сыном Ивана...» [75]. В существовании у галицкого князя Федора сына Ивана в
настоящее время сомневаться не приходится. Иван Федорович упомянут не только в
записи на псковском паримейнике 1313
г ., но и в статье 1345 г . Рогожского летописца, где сообщалось,
что на дочери князя Ивана Федоровича Марии женился младший сын Ивана Калиты
Андрей [76]. Что касается последнего галицкого князя
Дмитрия, то вопрос о его отце решился с обнаружением Рогожского летописца. В
этом раннем источнике приведено то же отчество Дмитрия, что и в Никоновской
летописи, — Борисович [77]. Становится очевидным, что все
известие 1360 г .
о галицком князе Никоновской летописи является достоверным и что последний
галицкий князь, вопреки показаниям позднейших родословцев, был сыном не Ивана,
а Бориса.
Согласно известию 1363 г . ростовского летописного источника, у
Дмитрия Борисовича была жена [78]. Следовательно, к
60-м годам XIV в. это был уже взрослый, сложившийся человек. Определяя, сыном
какого князя Бориса мог быть севший в 1360 г . на галицкий стол Дмитрий, приходится
остановиться на князе Борисе Дмитровском, скончавшемся в Орде в 1334 г . Думается, чти именно
такое родство объясняет, почему один из внуков Дмитрия Борисовича в первой
трети XV в. владел вотчиной в Дмитрове [79]. Последний факт
свидетельствует и о том, что традиции владельческого единства Галича и Дмитрова
дожили даже до XV в. Естественно, такие традиции были живучи и в XIV в. Их
существование обусловило в определенной степени передачу в 1360 г . ханом галицкого
стола сыну дмитровского князя.
Красноречива сама дата этой передачи. Посажение Дмитрия на стол в Галиче произошло с помощью Орды в тот самый год, когда на великое княжение Владимирское садится из той же монголо-татарской руки суздальский князь Дмитрий Константинович, а весь Ростов получает, скорее всего по ханскому ярлыку, местный князь Константин Васильевич [80]. Все три события, несомненно, взаимосвязаны. Суть их довольно прозрачна. Посажение на владимирский стол суздальского, а не московского князя, закрепление в Галиче дмитровского князя, передача всего Ростова местному князю отразили крупную политическую акцию Орды, направленную на подрыв объединительных достижений московских князей. Для вступившей в полосу смут Орды очень важно было удержать в подчинении богатый русский «улус», но для этого было необходимо приостановить усиление стремившейся к национальному освобождению Москвы. Поэтому передача Галича Дмитрию Борисовичу должна была преследовать антимосковские цели. А если так, то это означает, что в предшествующий период московские князья в отношении Галича чего-то добились.
И эти свои достижения московское правительство терять не
хотело. Уже через три года после ордынских нововведений 1360 г . москвичи
окончательно согнали с великокняжеского стола суздальского князя; поддержав
своего ставленника, заставили удалиться из Ростова Константина Васильевича, а
из Галича выгнали Дмитрия [81]. Таким образом,
источники указывают на то, что в 1360—1363 гг. Галицкое княжество было
реставрировано с помощью ордынской силы. И то обстоятельство, что в 1360 г . Галич получил не прямой
потомок галицкого князя, а его племянник, подчеркивает своеобразие момента.
Весьма характерно, что даже при поддержке монголо-татар Дмитрий Борисович уже
не претендовал на свою отчину — Дмитров. Но ему удается получить дедину —
окраинный Галич. Видимо, Дмитрий Борисович еще живет воспоминаниями о прежнем
владельческом единстве Дмитрова и Галича. У него есть определенные права на эти
города с их волостями, но реализовать их самостоятельно ему уже не под силу.
Очевидно, до 1360 г .
в политическом статусе Дмитрова и Галича произошли какие-то изменения. Какие
же?
Летописная статья 1368 г ., повествуя о первом походе литовского
великого князя Ольгерда на Москву, наряду с московской и коломенской упоминает
и дмитровскую рать. Все три рати были в распоряжении московского великого князя
Дмитрия Ивановича [82]. Становится ясным, что к 1368 г . Дмитров уже был в
руках Москвы. Принадлежность Дмитрова к владениям московского князя
вырисовывается и из анализа событий 1372 г ., когда враждовавший с Дмитрием
Ивановичем Московским тверской князь Михаил Александрович взял и сжег Дмитров [83]. С другой стороны, в последней духовной великого князя
Ивана Ивановича Красного Дмитров еще не упоминается в составе московских владений.
Эта духовная датируется 1359
г . Следовательно, превращение Дмитровского княжества в
вотчину московских князей произошло между 1359 и 1368 гг. Поражение в 1360 г ., т.е. как раз в
названный промежуток времени, сына дмитровского князя на стол не в своей отчине,
а в Галиче подсказывает дату присоединения Дмитрова к Москве. Это — 1360 г . Очевидно, что
московский великий князь, за которого по причине его малолетства действовали
его бояре, лишившись в первой половине 1360 г . владимирского стола и оказавшись обладателем
весьма скромных по размерам территорий в собственно Московском княжестве [84], компенсировал это захватом соседнего с Москвой
небольшого Дмитровского княжества. Захват совершился, видимо, без особых
потрясений. Дмитровские князья были слабы, а в самом Дмитровском княжестве уже
ряд лет существовали владения князей московского дома и распространялось их
влияние.
Что касается Галицкого княжества, то тут уместно вспомнить
то место из духовной Дмитрия Донского 1389 г ., которое около полутора столетий служит
предметом обсуждения историков. В своей духовной Дмитрий Иванович сослался на
«купли» деда — Ивана Калиты. Среди этих «купель» (Белоозера, Углича) был и
Галич «со всЪми волостми и съ селы и со всЪми пошлинами» [85].
Недоумения и споры исследователей по поводу утверждений завещания Дмитрия
Донского объясняются двумя моментами, которые в свое время четко сформулировал
А.Е.Пресняков [86]. Во-вторых, ни в духовных самого
Ивана Калиты, ни в духовных его сыновей — преемников на московском и
владимирском великокняжеских столах Симеона Гордого и Ивана Ивановича Красного
— «купли, и в их числе галицкие земли не фигурируют» [87].
Во-вторых, считалось, что во времена Донского по крайней мере на Белоозере и в
Галиче продолжали править князья местных династий. Однако, как показал
предшествующий анализ, в отношении Галича дело обстояло много сложнее, чем
считали прежние исследователи, ибо присутствие на галицком столе представителя
боковой линии галицких князей и посажение его в Галиче в тот год, когда Орда
активно вмешалась в русские дела, указывают скорее всего на восстановление
независимого Галицкого княжества. Поэтому второе основание для споров должно
отпасть, но первое остается.
Расхождение между завещаниями Дмитрия Ивановича и его предшественников комментировалось учеными по-разному. Н.М.Карамзин, первый обративший внимание на это несоответствие духовных грамот московских князей, сглаживал противоречие указанием на то, что Галич и другие «купли» «до времени Донского считались великокняжескими, а не московскими: потому не упоминается об них в завещаниях сыновей Калитиных» [88]. В то же время, несколько противореча себе, он подчеркивал зависимость «купель» от Московского княжества: они «не были еще совершенно присоединены к Московскому княжеству» [89]. Это сделал лишь Дмитрий Донской.
Н.М.Карамзину возражал С.М.Соловьев. По его мнению, присоединять «купли» к территории великого княжества Владимирского Ивану Калите не имело смысла, так как великим князем по его смерти мог стать не только представитель московского княжеского дома, но и князь тверской или нижегородский. «Это значило бы обогащать других князей за свой счет», — писал С.М.Соловьев [90]. Такое соображение С.М.Соловьева, разрушающее гипотезу Н.М.Карамзина, нельзя не признать резонным, хотя и с некоторыми оговорками.
Дело в том, что, как было показано в главе III, князья, занимавшие в XIV в. стол великого княжения Владимирского, стремились к расширению подвластной им территории и превращению ее в свое наследственное владение. Существование такой тенденции указывает на то, что великие князья XIV в. смотрели на управляемые ими земли несколько иначе, чем историк XIX в. Они больше заботились о том, чтобы, увеличивая территорию великого княжества, закрепить ее за собой и своим ближайшим потомством, чем угнетались постоянными опасениями (хотя такие опасения и появлялись) относительно возможного перехода в будущем владимирского стола в руки представителей иных династий. Поэтому вопрос, поднятый С.М.Соловьевым, должен решаться в иных плоскостях. Чтобы дать на него ответ, необходимо выяснить, во-первых, достигалось ли вообще расширение владимирской территории путем прикупов целых княжеств и, во-вторых, допускала ли Орда значительный территориальный рост великого княжения.
В отношении первого приходится констатировать, что никаких аналогичных или сходных случаев в XIV в. источники не отмечают. Данных, которые заставляли бы предполагать, что сыновья Александра Невского, князья тверского или московского домов (свидетельство о «куплях» Ивана Калиты как предмет анализа здесь, естественно, во внимание принято быть не может) увеличивали Владимирскую территорию какими-либо земельными покупками, не говоря уже о покупках соседних княжеств, нет. С другой стороны, как отмечали исследователи и как это было подтверждено выше, в XIV в. над землями великого княжества Владимирского установила свой контроль Орда, которая по мере возможности стремилась законсервировать размеры владений владимирских князей и контролировать сами посажения на великокняжеский стол. Политика Орды в русских землях в первой половине XIV в. показывает, что условий для «купель» в том их понимании, как предлагал Н.М.Карамзин, на Руси не было, и здесь С.М.Соловьев был прав.
Однако объяснение загадочных «купель» духовной грамоты 1389 г . Дмитрия Донского,
предложенное самим С.М.Соловьевым, и повторявшее, кстати, другую мысль
Н.М.Карамзина, в свою очередь страдало уязвимостью. По мнению С.М.Соловьева,
«Калита купил эти города у князей, но оставил еще им некоторые права
владетельных, подчиненных, однако, князю Московскому, а при Дмитрии Донском они
были лишены этих прав» [91]. Догадка С.М.Соловьева не снимает
недоумений. Непонятным остается характер отношений между московскими князьями и
князьями «купленных» княжеств (С.М.Соловьев пишет только о городах, что
неточно), причем отношений длительных, существовавших по меньшей мере на
протяжении двух десятков лет.
Поэтому Б.Н.Чичерин решал задачу более просто и прозаично. Он полагал, что «купли» Ивана Калиты действительно имели место, что территориально Галич, Углич и Белоозеро не сливались ни с Московским княжеством, ни с великим княжеством Владимирским, там сидели свои князья, но... «неизвестно на каких правах» [92].
По-своему пытался разрешить проблему В.И.Сергеевич. Принимая аргументы С.М.Соловьева против Н.М.Карамзина, он в то же время указывал на недостаточность позитивных доводов автора «Истории России с древнейших времен». Если «купли» Калиты действительно имели место, то, по мнению В.И.Сергеевича, князь Иван должен был все-таки сказать о них в своей духовной, тем более что мелкие приобретения (село Богородское, купленные люди, бортники, даже кусок золота) были аккуратно перечислены в его завещании. «Итак, — подводил итог В.И.Сергеевич, — молчание завещаний Калиты и его детей остается необъясненным, а возбуждаемые им сомнения неустраненными. Несомненно только следующее: Галич, Белоозеро и Углич в состав московской территории вошли при Дмитрии Донском» [93]. Последнее обстоятельство, казавшееся В.И.Сергеевичу несомненным, дало ему повод подозревать ссылку духовной Дмитрия Донского. Полагая, что внук Калиты присоединил Галич силой, В.И.Сергеевич делал вывод о «несоответствии языка официальных актов с действительными способами приобретения» земель московскими князьями, а поэтому указание Донского на «купли» деда расценивал как своего рода пропагандистский прием, вызванный «желанием замаскировать» насильственные действия [94]. Эту мысль В.И.Сергеевича позднее разделял и А.Н.Насонов [95]. В последнее время ее поддержал также французский исследователь В.А.Водов [96].
Значительное внимание вопросу о «куплях» Ивана Калиты уделил А.Е.Пресняков. Он внимательно разобрал все аргументы своих предшественников, сделал ряд интересных частных наблюдений, но в целом его толкование вопроса эклектично, и к твердому выводу он так и не пришел. С одной стороны, А.Е.Пресняков согласился с той точкой зрения Н.М.Карамзина, что «купли» князя Ивана имели отношение к великому княжению, а не к собственно Московскому княжеству [97]. А.Е.Пресняков даже попытался подкрепить заключение Н.М.Карамзина указанием на структуру завещания Дмитрия Донского, где, по его мнению, было проведено четкое разграничение между старыми вотчинами (московскими) и великокняжескими владениями [98]. К последним А.Е.Пресняков отнес и «купли» Ивана Калиты. Однако ссылка духовной на характер приобретения Галича, Углича и Белоозера заставила А.Е.Преснякова все-таки выделить «купли» из общего комплекса великокняжеских волостей [99]. Даже при довольно искусственном членении завещания Дмитрия Ивановича [100] содержание сделок, названных в нем «куплями» Калиты, а также судьбы Галича, Углича и Белоозера до их слияния с вотчиной московских князей продолжали быть для А.Е.Преснякова неясными, и он вынужден был воспользоваться объяснением С.М.Соловьева об оставлении Калитой некоторых владельческих прав за местными князьями [101]. «Уступка княжеских владений великому князю с сохранением права владельца "ведать" их пожизненно встречается и позднее в московской практике», — писал А.Е.Пресняков, пытаясь дополнить объяснение С.М.Соловьева ссылкой на передачу белозерской княгиней Феодосией земель своему племяннику Дмитрию Донскому [102]. Но разбирая указанный им же случай, А.Е.Пресняков вынужден был констатировать, что речь в нем идет только о части княжеских белозерских волостей, а не обо всем княжении, и что «купли» Калиты — «владения иного типа и судьба их иная» [103]. В итоге решения вопроса о «куплях» так и не последовало.
Весьма ценные соображения о «куплях» были высказаны М.К.Любавским. Он отверг мысль С.М.Соловьева о том, что в результате сделок Калиты за местными князьями могли оставаться права самостоятельных правителей. «... Такая сделка, — считал, и основательно, М.К.Любавский, — была бы мыслима в форме предоставления княжеств в пожизненное владение продавшим князьям, а не до поры до времени, со включением и преемников» [104]. Сам М.К.Любавский полагал, что «купли» действительно имели место, что Калита купил Галич, Углич и Белоозеро, заплатив ордынский выход за местных князей (здесь М.К.Любавский последовал за догадкой, высказанной еще С.М.Соловьевым [105]), которые в результате такой операции перешли на положение князей служебных [106]. Но если М.К.Любавский прав в определении юридического статуса утративших свою власть галицкого, углицкого и белозерского вотчичей, то его мнение о характере «купель» Калиты вызывает серьезные сомнения. Оно не находит аналогий в фактах русской истории XIII—XIV вв. Непонятным остается и отсутствие упоминаний «купель» в духовной самого Калиты и его сыновей.
Поэтому Л.В.Черепнин высказался за существование недошедшего завещания Ивана Даниловича, в тексте которого упоминания о «куплях» имелись. По предположению Л.В.Черепнина, эта духовная Калиты не была утверждена в Орде, и ее пришлось отставить. Лишь полвека спустя Дмитрий Донской вспомнил о ней и в своей «душевной» грамоте сослался на «купли» деда [107].
Нужно сказать, что мысль Л.В.Черепнина о третьей духовной грамоте Ивана Калиты не является оригинальной. Впервые она была высказана В.И.Сергеевичем, который сам же отверг ее по весьма веским соображениям [108].
На другой недостаток изложенной концепции указал А.И.Копанев, отметивший, что Л.В.Черепнин под «куплями» понимает «обычные приобретения сел на территории Белоозера, Галича и Углича», тогда как в духовной Донского речь идет о «купле» его дедом целых княжений [109]. Под «куплями» А.И.Копанев предложил понимать «определенный успех политики Ивана Калиты, который давал право внуку указать на купли как на основание своих политических действий» [110]. Нельзя не видеть, что подобный «определенный успех» не разъясняет существа дела. «Определенность» страдает неопределенностью. Не случайно поэтому, что, говоря о Белоозере, А.И.Копанев «куплей» Калиты считает ... брак белозерского князя с дочерью Ивана Даниловича, в результате которого княжество будто бы было подчинено Москве [111]. Думается, что искусственность подобного понимания очевидна.
С.М.Каштанов предположил, что Иван Калита купил только города Галич, Белоозеро и Углич, а их волости были захвачены уже Дмитрием Донским, примирив при таком решении вопроса мнения С.М.Соловьева и В.И.Сергеевича [112].
Подводя итог высказанным в исторической литературе точкам
зрения на «купли» Ивана Калиты, упомянутые только в завещании 1389 г . Дмитрия Донского,
приходится констатировать, что все рассмотренные выше ученые мнения загадки не
решили. На старом материале о политической судьбе Галича остается говорить
только в самой общей форме. Ясно, что Галич попадает под власть сидевших на
владимирском великокняжеском столе московских князей, но произошло ли это при
Дмитрии Донском или значительно раньше, при Иване Калите, выяснить без
дополнительных данных невозможно.
Такие дополнительные данные содержит запись на галицком
евангелии 1357 г .:
«В лЪто 6865 индикта 10-е, кроуга солнечного 6-е мЪсяца февраля 22 на память
святого отца Офонасья написано бысть святое еуаггелие въ град(Ъ) в ГаличЪ при
княженьи великого князя Ивана Ивановича рукою грешного Фофана, оже боуду не
исправил в коемь мЪcтЪ, исправя бога дЪля чтите, а не кленЪте» [113].
Современность и достоверность записи не вызывают сомнений [114]. Из нее явствует, что самостоятельного Галицкого
княжества в 1357г. не существовало. Галицким князем считался занимавший стол
великого княжения во Владимире второй сын Калиты Иван Иванович Красный. Этот факт,
во-первых, подтверждает высказанную ранее мысль о том, что в 1360 г . Галицкое княжество
получило независимость с помощью Орды; во-вторых, становится ясным, что князья
московского дома владели Галичем еще до Донского и ссылка последнего в своей
духовной на «купли» деда отражала реальность, Очевидно, что первым из
московских Даниловичей, распространивших свою власть на Галицкое княжество, был
Иван Калита.
Почему же, однако, Дмитрий Донской называл это «куплей»?
Для выяснения поставленного вопроса необходимо решить предварительную задачу.
Она заключается в определении того, слилось ли территориально Галицкое
княжество с Московским, а может быть с великим княжеством Владимирским, или же
сохранило территориальную целостность. Духовная Дмитрия Донского дает основание
полагать, что слияния не было. Показания духовной находят подтверждение во
второй договорной грамоте Дмитрия Ивановича с его двоюродным братом Владимиром
Андреевичем. В XV веке знали, что указанный договор был заключен при жизни
митрополита Алексея [115], т.е. до 12 февраля 1378 г ., когда умер этот
церковный и политический деятель [116]. С другой стороны,
договор не мог быть составлен ранее начала 1372 г ., поскольку в его
тексте упоминаются дети Владимира Андреевича [117].
Такое упоминание было бы бессмысленным, если князь Владимир не был бы женат.
Женился же он в начале 1372 г .
на дочери великого князя Литовского Ольгерда Елене [118].
Следовательно, соглашение было заключено между началом 1372 г . и 12 февраля 1378 г . Эти хронологические
рамки можно сузить. Сохранившийся текст договора упоминает сына великого князя:
«... тоб(е), брата своег(о) старЪишег(о), князя великого), соб(Ъ) отцемъ, а
сына твоег(о)...», «а ци б(ог)ъ размыслить о с(ы)ну о твоем, о братЪ...» [119]. Речь может идти только о сыне Дмитрия Ивановича
Василии, родившемся 30 декабря 1371
г . [120] Следующий сын
Дмитрия Юрий родился 26 ноября 1374
г . [121], но он в договоре не
упоминается. Отсюда вытекает, что последний составлен между началом 1372 и 26
ноября 1374 г .
В тексте договора наблюдается двойственное решение вопроса о территории
великого княжения Владимирского. С одной стороны, Владимир Андреевич обязывался
«вотчины м(и), г(о)с(поди)не, твоее и великог(о) кня[женья] ми под тобою не
искати», из чего можно сделать вывод, что великое княжение принадлежало Дмитрию
Московскому. С другой — в грамоте сохранилась фраза «пожалуетъ нас б(ог)ъ,
наидемъ тоб(ъ), княз(ю) великому, великое...» [122].
А.В.Экземплярский, а вслед за ним и другие исследователи, дополнили фразу
словом «княжение», что представляется бесспорным [123].
В таком случае необходимо прийти к заключению, что в момент составления
договора Дмитрий Московский не обладал всей полнотой власти во Владимирском
великом княжестве.
Отмеченное противоречие находит свое объяснение в той
ситуации, которая сложилась в Северо-Восточной Руси в 1371—1373 гг. 10 апреля 1371 г . из Орды на Русь с
ханским ярлыком на великое княжение Владимирское вернулся Михаил Александрович
Тверской, но закрепиться на территории великого княжения из-за сопротивления
москвичей ему не удалось [124]. Чтобы положить
конец проискам тверского князя, в Орду отправился Дмитрий Московский. За
большие деньги ему в свою очередь удалось получить от Мамая великокняжеский
ярлык [125], однако монголо-татары не отобрали при
этом ранее выданного ярлыка у Михаила Тверского. С осени 1371 г ., жогда Дмитрий
Иванович возвратился из Орды, на Руси по сути дела сложилось двоевластие. И
московский, и тверской князья стремились закрепиться в городах и волостях великого
княжения. Почти весь 1372 г .
прошел под знаком ожесточенной борьбы между ними. В итоге перевес оказался на
стороне Дмитрия Ивановича, но Михаил Тверской сумел удержать за собой некоторые
великокняжеские территории, в частности в Торжке и Бежецком Верхе. Лишь после
20 декабря 1373 г .,
т.е. в самом конце 1373 г .
или начале 1374 г .,
по словам летописи, «створишеться миръ» между соперниками [126].
Очевидно, что после этого мира все великое княжение и формально и фактически
принадлежало уже одному Дмитрию Московскому. Следовательно, колебания в вопросе
о судьбах великого княжения, отраженные во второй договорной грамоте Дмитрия
Ивановича с Владимиром Андреевичем, могли иметь место только до конца 1373 —
самого начала 1374 г .
Таким образом, хронологические рамки оформления данной договорной грамоты еще
более сужаются: начало 1372 г .
— начало 1374 г .
Скорее всего, она была составлена в 1372 г ., когда между Москвой и Тверью шла
особенно напряженная борьба.
Сам документ дошел в очень дефектном состоянии. Правый и
левый края его оборваны, осталась только средняя часть. В ней читается
следующая фраза: «А рубежь Галичю и Дми... при ИванЪ и при наших отцЪхъ при
великих князЪхъ...» (многоточием отмечены утраченные места) [127].
Фраза представляет собой шаблонную формулу. Пропуск в ее середине может быть
реконструирован на основании подобных же формул других княжеских договорных
грамот XIV в. В целом фраза должна читаться так: «А рубежь Галичю и Дми[трову
как былъ при нашемь дЪдЪ при великом князи] при ИванЪ и при наших отцЪхъ при
великих князЪхъ...» [128]. Восстановленный в таком виде текст
договора 1372 г .
свидетельствует, во-первых, о наличии четких границ Галича и Дмитрова, из чего
можно заключить, что их территории не сливались с другими, оставались
обособленными; во-вторых, возводит эти границы ко времени Ивана Калиты, который
как раз и совершил пресловутые «купли»; в-третьих, ясно указывает на
неприкосновенность установленных при Калите галицких и дмитровских рубежей
вплоть до вокняжения Дмитрия Ивановича. Таким образом, необходимо признать, что
в результате «купли» Калиты Галич сохранился как определенная территориальная
единица. Никакого присоединения к Москве или Владимиру не произошло [129].
Зафиксировав это обстоятельство, можно теперь вернуться к
вопросу о самой сути «купли» Галича. Уже семантика слова «купля» подсказывает,
что речь должна идти о какой-то покупке. Но мысль о приобретении Калитой Галича
у местного князя за внесенный ордынский выход, отчетливо высказанная
М.К.Любавским, неприемлема. Русская история XIV в. подобных сделок не знала. В
те времена русские князья получали княжества по ханским ярлыкам, которые можно
было купить. Так, в частности, был приобретен великим князем Василием
Дмитриевичем в 1392 г .
Нижний Новгород. По словам летописи, этот сын Дмитрия Донского, раздав «дары
великии» в Орде, «взя Нижний Новъградъ златомъ и сребромъ, а не правдою» [130]. Подобным образом, видимо, поступал еще прадед Василия
Иван Калита, за большие деньги получая в Орде ярлыки на мелкие княжества, в
частности на Галич. Такую операцию Дмитрий Донской, скорее всего, и называл
«куплей» своего деда. Местные же князья, видимо, служили великокняжескими
наместниками в Новгороде, Пскове или крупных центрах Владимирского великого
княжества (например, в Костроме).
Предложенное объяснение характера «купель» Ивана Калиты снимает все те недоумения историков, о которых говорилось выше. В самом деле, получение ярлыка на Галицкое княжество подразумевало существование княжества как определенной территориальной единицы. Ярлык на галицкий стол мог быть передан ордынским ханом не только князю-москвичу, но и любому другому русскому князю. Так, кстати говоря, оно и случилось в 1360—1363 гг. Подобная возможность делает понятной ту феодальную юридическую тонкость, почему, владея Галичем, Калита и его сыновья не могли считать его территорию частью территории своей московской вотчины или великого княжества Владимирского. Тем самым проясняется отсутствие упоминаний о «куплях» в их духовных грамотах.
Итак, удается установить, что в политическом статусе Галича
до 1360 г .
произошли серьезные изменения. Оказывается, галицкая территория весьма
продолжительное время находилась под контролем московских князей. Вполне
возможно, что Иван Калита начал править в Галиче вскоре после смерти в 1335 г . Федора Галицкого [131]. Московские князья занимали галицкий стол до самого
конца 50-х годов XIV в., когда, как уже говорилось, Орда передала ярлык на этот
стол дмитровскому князю Дмитрию Борисовичу.
Пример с Галичем вскрывает явления более широкого и общего порядка в формировании государственной территории Северо-Восточной Руси. Политический упадок ряда мелких северо-восточных русских княжеств в начале XIV в. вполне логично завершился во времена Ивана Калиты его «куплями», т.е. управлением их территорией без права наследственного владения. Наряду с попытками расширения пределов великого княжества Владимирского, стремлением сделать отчинными приобретенные на чужих территориях села, «купли» были проявлением, хотя и своеобразным, того общего центростремительного процесса на русском Северо-Востоке, который ясно обнаруживается в XIV в.
В этот процесс оказались вовлеченными и дмитровско-галицкие территории. Они все более и более подпадали под контроль великих князей владимирских, а в конце 50 — начале 60-х годов XIV в. превратились уже в наследственные земли великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Всякие остатки политической самостоятельности Дмитровского и Галицкого княжеств, их потенциальные возможности возвращения в число суверенных государственных образований были ликвидированы.
* * *
К концу XIV в. распалось на уделы долгое время бывшее единым Стародубское княжество. Свидетельства о его дроблении содержатся в актах XIV—XV вв., а также в более поздних источниках — родословных книгах. Согласно этим документам, у князя Андрея Федоровича Стародубского было четыре сына: Федор Стародубский, Василий Пожарский, Иван Ряполовский и Давыд Палецкий [132]. Прозвища сыновей Андрея Федоровича, полученные ими по центрам владений, помогают определить местоположение их уделов и вместе с тем очертить ту основную территорию, которую занимало Стародубское княжество в XIV в.
Самым крупным из четырех образовавшихся уделов был
сооственно Стародубский. Его центром стала столица княжества г.Стародуб,
располагавшийся на правом берегу Клязьмы на месте современного Кляземского
Городка [133]. В состав территории удела входило
стоявшее к северо-востоку от Стародуба близ оз.Горшкова с.Алексино, в конце XIV
— первой четверти XV в. бывшее центром одноименного стана [134].
Принадлежность других селений к Стародубскому уделу определяется по их
названиям, соответствующим прозвищам потомков князя Федора Андреевича
Стародубского. Так, младший сын этого князя Василий носил прозвище
Ромодановского [135]. Известно расположенное к востоку от
Стародуба с.Ромоданово [136] — очевидно отчина князя Василия. По
всей вероятности, оно входило в Стародубский удел. Один из внуков князя
Ф.А.Стародубского Петр Федорович носил прозвище Осиповского [137].
Оно было дано ему по с.Осипову, стоявшему на юг от Стародуба [138].
По-видимому, и это село нужно относить к территории Стародубского удела. Другой
внук князя Федора князь Михаил Иванович Голибесовский около середины XV в.
владел вотчинным селом Троицким [139]. Поскольку оно
принадлежало еще его отцу, можно считать, что Троицкое также относилось к
Стародубскому уделу. Местоположение с.Троицкого устанавливается на основании
раздельной грамоты 1490 г .
на это село между князьями Ф.Ф. и В.Ф.Пожарскими, сыновьями князя
Ф.Д.Пожарского, купившего Троицкое у князя М.И.Голибесовского, и старых карт. В
раздельной упоминается «Черневская сторона» Троицкого села [140].
На картах примерно в семи км на юг от г.Коврова показано с.Троицкое, а в двух
км юго-западнее Троицкого — д.Чернева [141], которая, очевидно,
и дала название «Черневской стороне». Все это позволяет отождествлять села
Троицкое XV в. и Троицкое XIX в. В меновной грамоте, относимой примерно к
40—70-м годам XV в., князей Ф.Д.Пожарского и М.И.Голибесовского на с.Троицкое
упомянуты соседние владения «брата» князя Андрея [142].
Карта фиксирует рядом с с.Троицким д.Андреевскую [143],
в которой по сходству названий и расположению следует видеть владение князя
Андрея. Речь должна идти не о князе Андрее Даниловиче Пожарском [144],
как полагал И.А.Голубцов, такой князь неизвестен, а о князе Андрее Федоровиче
Кривоборском, троюродном брате Ф.Д.Пожарского и внуке Ф.А.Стародубского. То,
что владения А.Ф.Кривоборского находились в районе д.Андреевской,
подтверждается фактом принадлежности ему с.Рождественского (будущего г.Коврова)
[145] и упоминанием в раздельной грамоте 1490 г . на с.Троицкое
«рубежа» князя Василия Коврова — единственного сына А.Ф.Кривоборского [146]. Очевидно, участок д.Андреевской, а также
с.Рождественское должны быть отнесены к территории Стародубского удела.
Возможно, в этот удел следует включать также села Татарово и Шустове —
вотчинные владения князя Ивана Васильевича Ромодановского, правнука Федора
Андреевича Стародубского [147]. Село Татарово
стояло на правом берегу р.Мстеры, левого притока р.Тары; село Шустове — на
левом берегу р.Тары, правого притока Клязьмы [148].
География перечисленных сел показывает, что Стародубский удел занимал довольно значительное пространство по обоим берегам Клязьмы, главным образом по ее правобережью, простираясь примерно от нижнего течения р.Нерехты, правого притока Клязьмы, на западе до реки Мстеры и Клязьмы на востоке, где последняя круто поворачивает на юг. Южная граница удела шла по Таре, примерно до середины этой реки, где стояло с.Сарыево. На левом берегу Клязьмы западная граница удела захватывала низовье Уводи, пересекая, видимо, верховье р.Тальши, правого притока Уводи. Так можно думать на основании двух актов 50—60-х годов XV в. В одном из них содержится указание на Усольцы — владение князя Федора Федоровича Стародубского [149]. Федор Федорович — старший сын Федора Андреевича Стародубского [150]. Усольцы следует отождествлять с позднейшим с.Усольем на правом берегу Уводи в ее нижнем течении [151]. Несколько выше этого села в Уводь впадает р.Тальша, на которой или близ которой, согласно другому акту, находились владения князей Петра Стародубского, другого сына Ф.А.Стародубского, и Федора Давыдовича и Федора Федоровича Палецких-Пестрых [152]. Существование владении стародубских иняэей около с.Усолье косвенно подтверждает верность идентификации Усолец с Усольем.
Территория трех остальных уделов Стародубского княжества определяется менее четко. Правда, центры владений Ивана Ряполовского и Давыда Палецкого устанавливаются легко. Это стоявшее к северо-востоку от Стародуба на р.Унгаре, левом притоке Тезы, с.Ряполово и расположенное еще дальше на северо-восток, на р.Палежке широко известное ныне с.Палех [153]. Благодаря обнаруженной В.Д.Назаровым меновной грамоте князей Даниила Васильевича Пожарского и Дмитрия Ивановича Ряполовского выясняется, что в удел первого ряполовского князя Ивана Андреевича входило Мугреево [154]. Так называлась территория по правому берегу Луха, несколько выше впадения в Лух р.Талицы [155]. Что касается границ Палецкого удела, то на основании известных ныне источников точно провести их линию невозможно.
До настоящего времени не было известно местонахождение центра владений князей Пожарских. Хотя исследователи производили их прозвище от с.Пожар или Погар [156], а источники XVI в. даже упоминают волость Пожар в Стародубе Ряполовском [157], но ни таких сел, ни такой волости историко-географы не нашли [158]. Когда во второй половине XIX — начале XX в. был опубликован ряд грамот князей Пожарских, выяснилось, что большинство владений представителей этого рода сосредоточивалось в Мугрееве [159]. На этом основании С.Ф.Платонов писал о том, что территория по верхнему течению рек Луха и Тезы была «родиной» Пожарских [160]. Однако теперь с обнаружением меновной грамоты XV в. князей Д.В.Пожарского и Д.И.Ряполовского стало очевидным, что Мугреево было исконной отчиной Ряполовских. Первоначальным же владением князей Пожарских была волость Пожар. Как свидетельствует меновная, князь Даниил «променил князю Дмитрею свою отчину Пожар со всем и с тем, што к нему потягло, как было за моим отцом за князем за Васильем за Ондреевичем» на Мугреево [161]. Следовательно, древний удел Пожарских был не в Мугрееве.
Местоположение Пожара выясняется благодаря духовной грамоте 1521/22 г. князя И.В.Ромодановского. В документе описываются границы владений этого князя, в том числе и с Пожаром: «А с Пожаром за Де[б]рью и Озерскую рубеж от реки отто Тары по закладницу по Сарыевскую по потесом к Бондаром от Пожара, а от Бондар да к Полтинину починку по потесом ото Осипова и от Пожара; и от Осипова за рубежом к Городищу да к Харятинскому рубежю — левая сторона к Пожару и к Осипову, а правая сторона к Полтинину починку, да к Пазухину Углу, да к Петровскому селу з деревнями и за Дебрью к деревням» [162]. Из перечисленных географических названий большинство локализуется по данным XIX в. Село Сарыево стояло на левом берегу Тары, в ее среднем течении. На северо-запад от Сарыева по обе стороны оврага Крондровского, спускавшегося слева к Таре, были расположены деревни Дебря и Озерки [163]. К северо-западу от Дебри и Озерок находился Кляземский Городок, в процитированном отрывке, видимо, названный Городищем. Справа от этой линии стояли села Петровское и Харятино, а слева — с.Осипово [164]. Пожар был расположен в той же стороне, что и Осипово. Следовательно, древний Пожарский удел лежал на юг и юго-запад от Стародуба.
Таким образом, Стародубское княжество в целом занимало территорию от рек Нерехты и Талыпи на западе до среднего течения Луха на востоке и от р.Тары на юге до с.Палех на севере. (См. рис. 9).
Рис.9. Стародубское княжество в конце XIV в.
Возвращаясь к владельческому дроблению Стародубского княжества в конце XIV в., следует указать па некоторые особенности этого дробления. Оказывается, князья Пожарские, Ряполовские и Палецкие владели землями не только вокруг своих удельных центров. Так, сын Василия Пожарского Даниил имел земли около оз.Смехро [165], расположенного по соседству со Стародубом на другом, левом, берегу Клязьмы [166]. Деревенькой около того же озерка владел в XV в. сын первого ряполовского князя Семен Хрипун [167]. Источники XVI в. указывают на вотчину князей Тулуповых — с.Воскресенское на р.Шижехте [168]. Тулуповы были потомками князя Давыда Палецкого. Но с.Воскресенское стояло гораздо ближе к Стародубу, чем к Палеху. Концентрация отдельных владений различных ветвей стародубских князей около их стольного города говорит о том, что при образовании первых уделов в Стародубском княжестве к уделам младших князей добавлялись села и угодья на территории собственно стародубской округи. Очевидно, феодальное дроблеиие незначительного Стародубского княжества начиналось так же, как и княжеств крупных — Тверского или Московского. Такое распределение владений способствовало (до известных пор) политическому единству княжества, поскольку делало удельных князей заинтересованными в сохранении за собой сел, деревень и угодий, расположенных близ главного центра княжества, а этот центр оставался в руках старшего представителя местного княжеского дома. Заботой об «единачестве» в политических делах своих сыновей под руководством старшего из них было продиктовано и наделение Андреем Федоровичем Стародубским своего первенца Федора большим по сравнению с остальными уделом. Показательно, что в наиболее ранних стародубских актах владения князя Федора Андреевича характеризуются как находящиеся в «старЪишинъствЪ», «в старишом пути» [169].
Общие черты, прослеживаемые в формировании территорий уделов Стародубского и других княжеств, думается, следует объяснить одинаковыми закономерностями их развития, именно проявлением определенных центростремительных политических тенденций.
Если обратиться к истории Стародубского княжества до периода его распада на уделы, то проявление таких тенденций можно, кажется, усмотреть в некоторых ее фактах.
Под 1330
г . летописи сообщают об убийстве в Орде князя Федора
Стародубского [170]. Сопоставляя смерть Федора с целой
серией казней русских князей во времена хана Узбека, по аналогии можно прийти к
выводу о политической подоплеке этого убийства, подоплеке, которая заключалась,
по-видимому, в стремлении Стародубского князя сохранить целостность своих
владений от посягательств извне [171].
Князю Федору наследовал сын, по всей вероятности — старший,
Дмитрий. Летописи относят кончину Дмитрия Федоровича Стародубского к лету 1355 г . [172]
Преемник Дмитрия, его брат Иван сел «на княжение въ СтародубЪ» только зимой
1356/57 г. [173] Почему же в течение примерно полутора лет
стародубский стол оставался незанятым?
Отрывочные известия летописных сводов за последующие годы
дают некоторый материал для ответа на поставленный вопрос. Так, летописи
отмечают, что во время похода великого князя Литовского Ольгерда на Москву в 1368 г . в пределах «области
Московьскыя» литовцами был убит князь Семен Дмитриевич Стародубский, по
прозвищу Крапива [174]. Очевидно, это сын Стародубского
князя Дмитрия Федоровича, но он уже не княжил в Стародубе, где правил, скорее
всего, его дядя Андрей, а служил московскому князю [175].
Иван Стародубский, по-видимому, поддерживал суздальского
князя Дмитрия Константиновича в его борьбе за Владимирское великое княжение с
Дмитрием Московским. Поэтому, когда в 1363 г . великокняжеский стол окончательно
перешел к московскому князю, Иван был изгнан из Стародуба [176].
Его преемником стал не племянник, сын княжившего в Стародубе Дмитрия Федоровича
Семен, а младший брат Ивана Андрей, который действовал уже в русле московской
политики [177]. Ориентация Ивана Федоровича
Стародубского не на Москву и более поздний факт службы московскому князю сына
Дмитрия Стародубского Семена говорят о том, что между летом 1355 г . и зимой 1356/57 г. в
Стародубе, по-видимому, произошло столкновение среди членов тамошней правящей
династии за верховную власть в княжестве. В итоге владельческая целостность
Стародубского княжества была сохранена. Очевидно, и в данном случае дали знать
себя местные центростремительные тенденции.
Если заключения о таких тенденциях верны, то нужно говорить об их существовании в XIV в. не только в крупных княжествах Северо-Восточной Руси, но и в княжествах мелких, игравших второстепенную роль в политической жизни той поры. Наличие объединительных устремлений на местах объясняет ту общую тягу к созданию единого национального государства, которая достаточно четко проявляется на русском Северо-Востоке в XIV столетии.
Дробление же Стародубского княжества на уделы произошло в период, когда Дмитрий Московский добился слияния Московского и великого княжества Владимирского в единое целое и когда стало ясным, что существование по соседству независимого Стародубского княжества препятствует более широким объединительным планам московских князей. В этих условиях сохранение прежней целостности Стародубского княжества стало невозможным, и оно начинает дробиться на уделы, которые в XV в. мельчают настолько, что быстро сводят положение некогда суверенных князей стародубских к положению служебных князей московского дома.
1. ДДГ, № 4, с.19, 16.
2.
Там же, № 3, с.14. Село Семеновское отождествляется с
известным в конце XV в. сельцом Семеновским - центром Семеновского стана
Владимирского уезда (АФЗ и X. М., 1951, ч.1, № 177, с.160; № 186, с.169. Ср.:
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .18,
где показаны некоторые из перечисленных в документах конца XV - начала XVI в.
поселения и реки).
3. ДДГ, № 1, с.10. Некоторые данные относительно того, что сохранились две разновременные духовные грамоты Ивана Калиты, а не две копии одного завещания, как считал Л.В.Черепнин, см.: Кучкин В.А. Из истории средневековой топонимии Поочья (названия древних московских волостей). - В кн.: Ономастика Поволжья. Саранск, 1976, вып.4, с.175-177.
4. Владимирская губерния. Список населенных мест. СПб., 1863, с.228, № 6106.
5. ДДГ, № 12, с.34.
6. См., например: ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.242.
7. Там же; см. также карту: Подмосковье. М., 1956, квадрат Б8. (Далее ссылка на эту карту).
8.
Дебольский Д.Н. Духовнее и договорные грамоты московских
князей как историко-географический источник. СПб., 1901, ч.1, с.32. При
определении местоположения с.Богородицкого В.Н.Дебольский воспользовался
Списком населенных мест Владимирской губернии, где под № 675 зафиксировано
с.Локотково-Богородское, стоявшее на р.Богане, в 25 верстах от г.Александрова
(См.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.28, № 675). С.М.Соловьев
ошибочно отождествлял с.Богородицкое на Богоне духовной 1389 г . Дмитрия Донского с
с.Богородицким, расположенным к юго-востоку от Юрьева (Соловьев С.М. История
России с древнейших времен. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.460, 671, примеч.173).
9. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.29.
10. ДДГ, № 20, с.56, 60.
11. ЦГАДА, ф.1209, кн.12468, л.8, 125. Пустошь Алексина упомянута здесь вместе с такими поселениями, которые, судя по Списку населенных мест Владимирской губернии, находились по соседству с селом Алексиным на р.Пекше, что и позволяет отождествлять пустошь XVII в. с селом XIX в.
12. Владимирская губерния. Список населенных мест, с.230, № 6148.
13. ДДГ, № 17, с.46. Относительно датировок грамоты см. приложенную к названному изданию таблицу.
14. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.463, 672, примеч.178.
15. Ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.231, № 6193.
16. Дебольский В.Н. Духовные и договорные грамоты... СПб., 1902, ч.2, с.9.
17. ДДГ, № 17, с.46.
18. АФЗ и X, ч.1, № 145, с.129; № 146, с.130; № 147, 148, с.131.
19. ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.168, вар.43; СПб., 1853, т.6, с.43. Возможно, что в этих летописях известие о смерти Семена Владимировича является вставкой, попавшей в текст не совсем на свое место, но вряд ли можно сомневаться в хронологической точности сообщения о кончине боровского князя.
20. Поэтому нельзя согласиться с С.Б. Веселовским, предполагавшим, что села Поеловское, Богоявленское и Федоровское перешли к митрополичьей кафедре от владимирских епископов. - Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М.; Л., 1947, т.1, с.365.
21. АФЗ и X, ч.1, № 154, с.135.
22. Там же, № 165, с.149.
23. Ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.231, № 6192 (где рядом с с.Бавленьем указана казенная деревня Семендюкова).
24. Черепнин Д.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.; Л., 1948, ч.1, с.86 и примеч.72, где приведены другие датировки первой духовной грамоты Василия Дмитриевича, предложенные предшественниками Л.В.Черепнина и колеблющиеся между 1405 и 1410 гг.
25. ДДГ, № 20, с.56.
26. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.2, с.5. Ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.228, № 6097; с.235, № 6289.
27. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.241; карта Подмосковье, квадрат А9.
28. ДДГ, № 12, с.33. В «Указателе географических названий» к этому изданию села Елизаровское и Проватово объединены в одно - с.Елнзаровское Проватово (с.535), но духовные великого князя Василия Дмитриевича показывают, что речь должна идти о двух селах (Там же, с.58, 61).
29. Дебольский В.В Указ. соч., ч.1, с.28.
30. Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929, с.55-56.
31. Владимирская губерния. Список населенных, мест, с.227, № 6070. На относительную близость Красного села к Юрьеву указывает и одна грамота первой четверти XV в., из которой следует, что посельский этого села жил в самом Юрьеве (АСВР, т.1, № 43, с.48). Грамота датируется на основании упоминаний в ней великого князя Василия Дмитриевича и Ивана Дмитриевича Всеволожского. Карьера последнего началась, по-видимому, в конце XIV в., но положения, когда он мог подписывать указные грамоты великого князя, Иван Дмитриевич достиг, надо полагать, не ранее начала XV в. В 90-х годах XIV в. еще действовал его отец, боярин Дмитрий Александрович. См.: Веселовский С.В. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с.336-337, 332-333.
32. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.460, 671, примеч.173.
33. ДДГ, № 12, с.33-34.
34. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.28; Владимирская губерния. Список населенных мест, с.234, № 6275.
35. Любавский М.К. Указ. соч., с.55-56.
36. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.28; ср.: Владимирская губерния. Список населенных мест, с.140, № 3704.
37. Смирнов М.И. Прошлое переяславль-залесской деревни. - Труды Переяславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. Переяславль-Залесский, 1928, вып.6/7, с.59.
38. ДДГ, № 12, с.33-34. Только княжич Иван земель в Юрьеве не получил. Ему вообще был выделен значительно меньший удел, чем его братьям. А.В.Экземплярский объяснял последнее неполноценностью этого сына Дмитрия Донского, что кажется правдоподобным (Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1889, т.1, с.291).
39. ДДГ, № 12, с.35.
40. Там же, № 17, с.46.
41. ПСРЛ. СПб., 1885, т.10, с.206.
42. Там же, с.207.
43. ПСРЛ. Пг., 1922, т.15, вып.1, стб.47.
44.
Там же. Известия о смерти Бориса Дмитровского и Федора
Галицкого читаются также в опубликованном в 1958 г . А.Н. Насоновым
фрагменте Тверского летописного свода (Насонов А.Н. О тверском летописном
материале в рукописях XVII века. - В кн.: Археографический ежегодник за 1957
год. М., 1958, с.38). Принимая во внимание характер летописных памятников, где
помещены известия о кончине дмитровского и галицкого князей, следует прийти к
выводу, что эти известия читались в тверском летописном источнике XIV в.
45. М.Н.Тихомиров, исследовавший историю сел и деревень Дмитровского края, писал, что «первые известия об отдельных селениях Дмитровского края сохранились лишь от XV в.» и что к XIV в. можно возвести названия только двух дмитровских сел, да и то по косвенным признакам. - Тихомиров М.Н. Села и деревни Дмитровского края в XV-XVI веках. - В кн.: Российское государство XV-XVII веков. М., 1973, с.222, 227.
46. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.18-19; ДДГ, № 95, с.386-387.
47. К ним должны быть отнесены «село у озера» (Озерецкое), Микифоровское и Парфеньевское, а также с.Хвостовское на Клязьме. О них см.: ДДГ, № 1, с.8, 9; № 2, с.11; № 3, с.14. О местоположении этих сел см.: Любавский М.К. Указ. соч., с.37 и карта; Московская губерния. Список населенных мест. СПб., 1862, с.25, № 504, 518: ПКМГ. СПб., 1872, ч.1, отд.1, с.66, 219.
48. Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.227.
49. Гавша - уменьшительное от Гавриил. - Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974, с.76.
50. Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.252.
51. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев, с.220-221.
52. Там же, с.220.
53. Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.241.
54. Там же, с.233, карта.
55. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев, с.212.
56. ДДГ, № 12, с.34.
57. АСВР, т.1, № 61, с.58, 596 (комментарий к акту № 61).
58. ДДГ, № 61, с.194; № 89, с.355, 359; № 94, с.374.
59. Ср. наблюдения М.Н.Тихомирова над естественно-географическими особенностями Дмитровского края и характером его заселения: в первую очередь заселялись земли к югу и востоку от Дмитрова, в последнюю - северо-западные; многие районы Дмитрова даже в XV-XVI вв. представляли собой громадные леса или заболоченные пространства. - Тихомиров М.Н. Указ. соч., с.219-222.
60. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.132; т.18, с.125.
61. ПСРЛ. СПб., 1910, т.23, с.123; ср.: ПСРЛ. М.; Л., 1963, т.28, с.81, 243.
62. В начале XVII в., и по-видимому в XVI в., Чухлома являлась частью Галипкого уезда. - Веселовский С.Б. Сошное письмо. М., 1916, т.2, с.423, примеч.3; с.588.
63. ДДГ, № 12, с.34.
64. ЦГАДА, ф.1209, кн.10982, ч.2, л.471 (д.Борисовская), 548об. (с.Никольское).
65. Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962, с.221.
66.
ГИМ, Синод., № 15, л .128. Запись неоднократно издавалась.
Последняя публикация: Щепкина М.В., Протасьева Т.Н., Костюхина Л.М; Голышенко
В.С. Описание пергаментных рукописей Государственного Исторического музея. - В
кн.: Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965, с.167.
67.
НПЛ, с.92, под 6817 г . мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г.
Хронология русского летописания. М., 1963, с.277.
68.
Псковские летописи. М., 1941, вып.1, с.14, под 6820 г .
69.
ГИМ, Синод., № 172, л .202об. Это послесловие относится к
рукописи: ЦГАДА, ф.381, № 61. В свое время пять последних листов из рукописи №
61 были изъяты и приплетены к рукописи № 172 Исторического музея. Запись
неоднократно издавалась. Последняя публикация: Щепкина М.В., Протасьева Т.Н;
Костюхина Л.М., Голышенко В.С. Указ. соч., с.210.
70. Подробнее см.: Кучкин В.А. Из истории генеалогических и политических связей московского княжеского дома в XIV в. - Ист. зап., 1974, вып.94, с.366-372, 380.
71. ДДГ, № 3, с.14.
72. ПСРЛ, т.18, с.93, под 6847: г. мартовским. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.351.
73. ДДГ, №3, с.14.
74. ПСРЛ, т.10, с.232.
75. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья... СПб., 1891, т.2, с.214, примеч.601.
76.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.56. О том, что в статье 1345 г . Рогожского летописца
упоминался князь Иван Федорович Галицкий, см.: Кучкин В.А. Из истории
генеалогических и политических связей..., с.366-372.
77. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.69.
78.
Насонов А.Н. Летописный свод XV века (по двум спискам). - В
кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, вып.2, с.301, под 6870 г ., соответствующим 6871 г . других летописей.
79. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев, с.419.
80. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.68-69.
81. Там же, стб.74. Любопытные подробности об изгнании Дмитрия Галицкого сохранились в ростовском летописании XV в. Оказывается, на Дмитрия Борисовича ходила объединенная рать всех московских князей - Дмитрия и Ивана Ивановичей, Владимира Андреевича, которая прогнала галипкого князя, «а княгиню его полоннша» (Насонов А.Н. Летописный свод XV века..., с.301).
82. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.89.
83. Там же, стб.99.
84. Ср. содержащиеся в духовных грамотах Ивана Ивановича данные о великокняжеских землях его и его сына Дмитрия. - ДДГ, № 4, с.15-19.
85. Там же, № 12, с.34.
86. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с.150.
87. См.: ДДГ, № 1, 3, 4.
88. Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И.Эйнерлинга. СПб., 1842, кн.1, т.4, стб.152.
89. Там же, кн.2, т.5, стб.59-60.
90. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.342, примеч.417.
91. Там же.
92. Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858, с.241.
93. Сергеевич В.И. Древности русского права. 3-е изд. СПб., 1909, т.1, с.59-60.
94. Там же, с.59, примеч.1.
95. Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940, с.105, примеч.3.
96. Vodoff W. A propos des «achats» (kupli) d'Ivan 1-er de Moscou. - Journal des savants, P. 1974, N.2.
97. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.152, 189. В духе своей концепции А.Е.Пресняков рассматривал «купли» не как земельные приобретения, а как факт собирания власти, подчинения мелких князей-вотчичей великокняжеской власти (Там же, с.151, 153).
98. Там же, с.152, 188.
99. Там же, с.152, примеч.2.
100.
По мнению А.Е.Преснякова, духовная Дмитрия Донского
композиционно делится на две части. В первой говорится лишь о московских
уделах, а во второй - только о великокняжеских землях (Пресняков А.Е. Указ.
соч., с.152). Такое деление страдает схематизмом. И во второй части (по
А.Е.Преснякову) упоминаются собственно московские волости и села, а в первой
части наряду с московскими землями фигурирует Дмитров, присоединенный к Москве
только в 1360 г .
(См.: ДДГ, № 12, с. 34). На факт включения Дмитрова «в состав уделов московской
вотчины» обращал внимание сам А.Е.Пресняков (Пресняков А.Е. Указ. соч., с.189).
С другой стороны, А.Н.Насонов верно подметил, что текст духовной Донского
«явственно различает:
a. великое княжение, к которому относит Кострому и Переяславль, и
b. Галич, Углич и Белоозеро...» (Насонов А.Н. Монголы и Русь, с.105, примеч.3).
101. Пресняков A.Е. Указ. соч., с.152.
102. Там же, с.152-153.
103. Там же, с.153, примеч.1.
104. Любавский М.К. Указ. соч., с.54.
105. Ср.: Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.454.
106. Любавский М. К. Указ. соч., с. 54.
107. Черепнин Л.В. Указ. соч., ч.1, с.18.
108. Сергеевич В.И. Указ. соч., с.59, примеч.1.
109. Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV-XVI вв. М.; Л., 1951, с.24.
110. Там же.
111. Там же, с.37-38.
112.
Каштанов С.М. Еще раз о «куплях» Ивана Калиты. - Вопр.
истории, 1976, № 7, с.190-191. Чтобы подтвердить свои умозаключения,
исследователю необходимо было доказать не возможность, а обязательность того
своеобразного понимания текста духовной 1389 г . князя Дмитрия, которое он предлагает, и
привести параллели из истории не XV, а XIV в.
113.
ГИМ, Синод., № 68, л .178об. Запись неоднократно публиковалась.
См., например: Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка
(X-XIV веков). 2-е изд. СПб., 1882, стб.213-214; Покровский А.А. Древнее
псковско-новгородское письменное наследие. - В кн.: Труды XV Археологического
съезда в Новгороде. М., 1916, с.146; Щепкина М.В., Протасьева Т.Н., Костюхина
Л.М., Голышенко В.С. Указ. соч., с.172.
114. Подробно эти вопросы рассмотрены в работе: Жуковская Л.П. Из истории языка Северо-Восточной Руси в середине XIV в. - Труды Ин-та языкознания. М., 1957, т.8, с.34, 41-43.
115. ДДГ, № 7, с.24 (помета на обороте грамоты).
116.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.120, под 6885 г . мартовским, с
указанием полной даты. 12 февраля 1378 г . действительно приходилось на пятницу.
117. Л.В.Черепнин считал, что в договорной грамоте речь идет о реальных детях Владимира Андреевича (Черепнин Л.В. Указ. соч., ч.1, с.36). Ему возражал А.А.Зимин, полагавший, что в договор внесено указание лишь на возможных детей этого князя (Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV-XV вв. - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1958, вып.6, с.283-284). Верным следует признать заключение А.А. Зимина.
118.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.99. Сообщение помещено после
известия о рождении 30 декабря 1371
г . у великого князя Дмитрия Ивановича сына Василия.
119. ДДГ, № 7, с.23, 24.
120. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.99.
121. Там же, стб.108.
122. ДДГ, № 7, с.23.
123. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.221.
124. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.95-96.
125. Там же, стб.96.
126. Там же, стб.105.
127. ДДГ, № 7, с.23.
128. Ср.: ДДГ, № 9, с.27 (третий абзац) и № 15, с.42 (третий абзац).
129.
Относительно Владимира это в определенной степени
подтверждается приведенной выше фразой о «нахожении» Дмитрию Ивановичу великого
княжения. Если это княжение еще предстояло «найти», то Дмитров и Галич уже были
в руках князей московского дома. Очевидно, что территории этих центров к 1372 г . в понятие «великое
княжение» не входили.
130.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.162, под 6900 г .
131.
В 1336 г .
Иван Калита ходил в Орду и зимой 1336/37 г. вернулся «съ пожалованиемъ въ свою
отчину» (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.47). Не заключалось ли это «пожалование» в
получении им ярлыка на Галич?
132. Родословные книги. - Временник МОИДР. М., 1851, кн.10, отд.2, с.64, 248. Здесь вторым сыном Андрея Стародубского назван не Василий, а Даниил Пожарский, однако, согласно показанию одного акта конца XIV - первой четверти XV в., существовал князь Даниил Васильевич, который приходился племянником князю Федору Андреевичу Стародубскому (АСВР, т.1, № 5). Следовательно, сыном Андрея был Василий. Но едва ли Василия следует считать старшим сыном Андрея Стародубского (Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.183; Савелов Л.М. Князья Пожарские. - В кн.: Летопись историко-родословного общества в Москве. М., 1906, вып.2 и 3, с.5; оба исследователя признают Василия первым сыном Андрея Федоровича). Судя по сравнительному значению уделов наследников Андрея, Василий был вторым сыном этого князя, как и считал С.В.Рождественский (Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897, с.172, 176).
133. Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950, с.4-5, 124 (л. 135); Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.174.
134. АСВР, т.1, № 4, с.27-28; № 5, с.28.
135. Родословные книги, с.64, 248.
136.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13.
137. Родословные книги, с.64, 249.
138.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13.
139. АСВР, т.2, № 451, с.491
140. ЦГАДА, ф.1203, кн.205, л.255.
141.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13.
142. АСВР, т.2, № 451, с.491.
143.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .19.
144. АСВР, т.2, с.619 (по «Указателю личных имен»).
145. Савелов Л.М. Князья Ковровы. - В кн.: Сборник статей в честь М.К.Любавского. Пг., 1917, с.291.
146. ЦГАДА, ф.1203, кн.205. л.255об.; Родословные книги, с.65.
147.
ЦГИА, ф.834, oп.4, № 1517, л .202об.-224об.
148.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .14, 20.
149. АСВР, т.2, № 455, с.494. В акте указывается, что сын Ф.Ф.Стародубского князь Константин пожаловал братью суздальского Спасо-Евфимьева монастыря, «дал есмь имъ варницю варити сол(ь) в своеи вотчин(е) оу Солци». Последние два слова надо читать, по-видимому, слитно и отождествлять «Оусолци» с селом Усольем XIX в. «Солца» же акта № 455 в «Указателе географических названий» к АСВР, т.2 оказалась географически не определенной.
150. родословные книги, с.64, 248.
151.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13.
152.
АСВР, т.2, № 496, с.544-545. В комментарии к этому акту
неверно определена география перечисленных в нем объектов (Там же, с.571). Речь
должна идти не о районе близ современного г.Иваново, а о нижнем течении
р.Талыпи, правого притока р.Уводи. На карте XIX в. близ среднего течения Талыпи
показана деревня Мишкина (ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13), название
которой совпадает с именем упоминаемого в акте Михалки Тальшанина.
153.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .13, 7. О принадлежности Палеха князьям
Палецким см.: ДДГ, № 104, с.435.
154.
«А яз, князь Дмитреи, променил князю Данилу свою отчину
Мугреево и со всем тем, што к нему потягло, чем мене благословил отец мои,
князь Иван Ондреевич...» (ЦГАДА, ф.1203, кн.205, л.394). Меновная не имеет
даты. Время ее составления может быть определено приблизительно. В акте
упомянуты починки, доставшиеся князю Д.И.Ряполовскому после его брата Андрея.
Речь идет о родном брате Дмитрия князе Андрее Лобане Ряполовском, убитом в бою
под Белевом 5 декабря 1438 г ,
(Родословные книги, с.66, 250; ПСРЛ. М.; Л., 1949, т.25, с.260). Следовательно,
грамота составлеьа после 5 декабря 1438 г . В марте 1490 г . действуют уже внуки
Даниила Пожарского (ЦГАДА, ф.1203, кн.205, л.255). Значит, грамота была
написана до марта 1490 г .
Скорее всего, она была оформлена около середины XV в.
155.
Акты XVI в. упоминают в Мугрееве с.Дмитреевское, деревни
Телпино (Телепино), Шеверинога (Шевернина), Чафузово (Чевузово), Олтухово,
Взвоз {Савелов Л.М. Князья Пожарские..., с.41, 43, 46). Все эти поселения
сохранились и в XIX в. - ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .14.
156. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.188-189, Любавский М.К. Указ. соч., с.66-67.
157. ДДГ, № 103, с.423; Любавский М.К. Указ. соч., с.67.
158.
А.В.Экземплярский, ссылаясь на известное место
Лаврентьевской летописи, описывающее под 1096 г . битву Мстислава Владимировича с Олегом
Святославичем у Суздаля «перешедъ пожаръ», считал, что этот «пожаръ» - некая
полоса земли по р.Клязьме - и был позднее владением князей Пожарских
(Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.189, примеч.544). Но такая интерпретация
известия 1097 г .
неприемлема (см. выше, гл.1, примеч.107).
159. Владимирский сборник / Сост. и изд. К.Тихонравов. М., 1857, с.128; Сборник Муханова. 2 е изд. СПб., 1866, № 281, с.569-570; Савелов Л.М. Князья Пожарские, прил.
160. Платонов С.Ф Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. СПб., 1910, с.508.
161. ЦГАДА, ф.1203, кн.205, л.393об.
162.
ЦГИА, ф.834, oп.4, № 1517, л .208.
163.
ЦГВИА, ВУА, № 21272, л .20, 19.
164. Там же, л.13.
165. ACBP, т.1, № 5, с.28.
166. ЦГВИА, ВУА, № 21272. д.13.
167. ACBP, т.1, № 188, с.134.
168. ПКМГ, ч.1, отд.1, с.870.
169. АСВР, т.1, № 4, 5, с.28.
170. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.45.
171.
В литературе высказано предположение, что Федор был убит по
проискам Калиты (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.180). Однако известие 1319 г . о приезде
Стародубского князя в Тверь посольством от великого князя Юрия Даниловича
Московского (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.40; Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском.
М., 1974, с.125, примеч.153) показывает, что стародубский князь выступал
союзником Москвы. Можно высказать догадку, что убийство стародубского князя в
Орде в 1330 г .
было связано с происками великого князя Александра Васильевича Суздальского,
которому в то время принадлежали Владимир и Нижний Новгород, т.е. соседние со
Стародубским княжеством территории, и который, по-видимому, был заинтересован в
расширении своих владений за счет земель более слабого соседа.
172. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.64.
173. Там же.
174. Там же, стб.89.
175. Там же.
176.
ПСРЛ. М..; Л., 1962, т.27, с.243, 327, под 6870 г . (но здесь изложены
события 1362 и 1363 гг.). В Никоновской летописи изгнание Ивана Стародубского
отнесено к 6871 г .
(ПСРЛ. СПб., 1897, т.11, с.2).
177.
ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.111. Андрей Федорович Стародубский
участвовал вместе с Дмитрием Московским в походе на Тверь в 1375 г .
|
|
|
|
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОГО, УГЛИЦКОГО, ЯРОСЛАВСКОГО, МОЛОЖСКОГО И БЕЛОЗЕРСКОГО КНЯЖЕСТВ В XIV в.
Обширными территориями, главным образом за Волгою и на
Севере, продолжали владеть в XIV в. потомки старшего сына Всеволода Большое
Гнездо Константина. Представление о размерах их владений дает летописное
известие 1394 г .
о смерти ростовского архиепископа Федора, который был Церковным иерархом
"града Ростова и Ярославля, БЪлаозера и Устюга, Углича Поля, Мологи" [1].
Здесь перечислены те самые города, которые Всеволод Большое Гнездо еще при
своей жизни отдал в управление своему первенцу Константину и большинство
которых после смерти последнего стало центрами отдельных владений его сыновей и
внуков. Простиравшиеся на много сотен километров с запада на восток и с юга на
север земли Константиновичей долгое время были подвластны только им, но в XIV
в. здесь появляются и владения князей — потомков Ярослава Всеволодовича.
Ростов, бывший стольным городом Константина, в XIV в. уже
не имел того политического значения, какое было у него прежде. Только в
церковном отношении Ростов оставался центром всех княжеств, на которые
распалась отчина старшего Всеволодовича. Во владельческом же отношении даже
собственно Ростовское княжество не сохранило в XIV в. своей целостности. Намек
на его политический и территориальный раздел содержится в летописном известии
1316 года. В Софийской I и Новгородской IV летописях сообщается, что в том году
"прииде изо Орды князь Василей Костянтиновичь, а съ нимъ татарьские послы
Сабанчей и Казанчий, и много зла сътвориша Ростову" [2].
Это известие, отсутствующее в других более ранних летописных памятниках,
следует возводить, согласно исследованию А.А.Шахматова, к ростовскому своду
начала XV в. архиепископа Григория, послужившему источником свода 30-х годов XV
в. — общего источника Софийской I и Новгородской IV летописей [3].
В ростовском своде конца XV в. под 1316 г . также читается сообщение о приходе с
послами из Орды князя Василия, но фразы о "зле" в Ростове нет [4].
Между тем эта фраза является важным свидетельством о борьбе внутри Ростовского
княжества: ведь упомянутый князь Василий Константинович был младшим сыном
ростовского князя Константина Борисовича и должен был наследовать по крайней
мере часть княжества [5].
Но если он с монголо-татарами творит "зло" в Ростове, это означает,
что Ростов принадлежал не ему одному. Кому же еще?
Здесь возможны два предположения. В 1316 г . был жив племянник
Василия, сын его старшего брата Александра Юрий, которого летопись называет
"Ростовским" [6].
Допустимо, что был жив еще и сам князь Александр Константинович, а также их двоюродный
брат Иван Дмитриевич [7].
Между этими князьями и мог произойти (или быть закреплен) после смерти в 1305 г . Константина
Борисовича Ростовского [8]
раздел собственно Ростовского княжества.
Но может быть предложено и иное толкование известия 1316 г . В ростовском
летописании отмечалось, что за год до прихода из Орды Василия Константиновича
оттуда же пришел на Русь великий князь Владимирский Михаил Ярославич Тверской и
привел с собой послов Таитемеря, Мархожу и Индыя, которые "в РостовЪ, быша
и много зла подЪяша" [9].
Не исключено поэтому, что действия Василия Ростовского в 1316 г . были направлены не
против ближайших родственников, а против великого князя, стремившегося
распространить свой контроль на ростовские земли, как позднее это удалось Ивану
Калите. Но при всех предположениях несомненным будет вывод о делении власти и,
весьма вероятно, также территории в Ростовском княжестве в начале XIV в. Вопрос
только заключается в том, владели ли частями Ростовского княжества
представители местного княжеского дома или на некоторые части распространила
свой контроль великокняжеская власть или же было то и другое вместе. Данные за
последующие годы дают более ясные свидетельства о феодальном дроблении Ростова.
Василию Константиновичу Ростовскому наследовали его сыновья
Федор и Константин [10].
Родословные росписи ростовских князей свидетельствуют, что между братьями
произошел раздел: Федору досталась Стретенская половина Ростова, а Константину
— Борисоглебская, и с той поры "родъ князей Ростовскихъ пошолъ
надвое" [11].
Хотя княжеские родословные росписи составлялись едва ли ранее последней
четверти XV в., скорее всего в XVI в., показания этих источников о
владельческом делении Ростова в XIV в., по-видимому, верны. В некоторых
родословных книгах указывается даже точная дата этого события: 1328 (6836) год [12],
которую исследователи склонны принимать за достоверную и делать на ее основании
ряд далеко идущих исторических выводов [13].
Между тем такая дата отсутствует в ранних родословных росписях [14].
Она, следовательно, привнесена в эти источники позднее и не является элементом
старинного родословного предания о делении Ростова [15].
Основываться на ней нельзя, хотя раздел между Федором и Константином
Васильевичами и произошел около указанного времени, во всяком случае, не
позднее 1331 г .,
когда умер старший из братьев Федор [16].
Из комментария составителей родословной росписи к факту владельческого раздела
Ростова, что "оттоле" род ростовских князей "пошолъ
надвое", историки заключают о постоянно множившемся па протяжении XIV—XV
вв. дроблении Ростовского княжества. "Постепенно нарастает это вырождение
в XIV и XV столетиях, но поворотный пункт в истории ростовских князей агиограф
Епифаний правильно отметил в дни в.к. Ивана Даниловича", — писал
А.Е.Пресняков [17],
Известные в настоящее время факты рисуют дело несколько в ином свете.
В исторической литературе уже давно было обращено внимание
на два свидетельства. Одно из них — летописное и относится к 1474 г . Под этим годом
летописи сообщают, что "тое же зимы продаша великому князю Ивану
Васильевичю князи Ростовьские свою отчину, половину Ростова съ всЪмъ, князь
Володимеръ АндрЪевичь и братъ его князь Иванъ Ивановичь и съ всЪми своими дЪтми
и з братаничи; князь же великий, купивь у нихъ, дасть матери своей ту половину,
великой княгини Марьи" [18].
Другое свидетельство более раннее. Оно содержится в духовной грамоте великого
князя Василия Васильевича, составленной между 3 мая 1461 года и 27 марта 1462
года. В своем завещании Василий Темный передавал своей жене, т.е. той же Марии
Ярославне, "Ростов и со всЪмъ, что к нему потягло, и с селы своими, до eЪ
живота. А князи ростовские, что вЪдали при мнЪ, при великом князи, ини по тому
и деръжат..." [19].
Из сопоставления известий следует, что уже великий князь Василий Васильевич
владел половиной Ростова [20].
Но какой? Двоюродные братья Владимир Андреевич и Иван Иванович Ростовские были
правнуками Константина Васильевича [21].
Следовательно, отчиной братьев являлась Борисоглебская половина Ростова,
которая и была уступлена Ивану III. Отсюда вытекает, что Василий Темный владел
Стретенской половиной города.
Долгое время существовала догадка, будто Стретенская
половина Ростова была впервые приобретена великим князем Василием Дмитриевичем [22].
Но А.Н.Насонов нашел летописец, в котором после известия о продаже части
Ростова в 1474 г .
пояснялось, что "первая же половина Ростова к МосквЪ соединися при
великомъ князЪ Иване ДаниловичЪ" [23].
Получение Иваном Калитой половины Ростова следует датировать временем около 1332 г . и связывать с теми
внутренними изменениями в Ростовском княжестве, которые последовали за смертью
в 1331 г .
князя Федора Васильевича и привели к возвышению его брата Константина [24].
С конца 30-х и по начало 60-х годов XIV в. Константин Васильевич постоянно
упоминается в летописях с прозвищем "Ростовский", только он
возглавляет ростовские полки, преимущественно он присутствует на междукняжеских
съездах и ездит в Орду [25],
т.е. ведает всеми военными и дипломатическими делами княжества.
Стретенская половина Ростова не стала наследственным достоянием московских князей. Ростов не упоминается как московская отчина в духовных грамотах Ивана Калиты, его сыновей и внука Дмитрия [26]. Очевидно, обладание Стретенской половиной Ростова было привилегией только великого князя Владимирского. Но поскольку стол великого княжения во Владимире с начала 30-х по конец 50-х годов XIV в. занимали исключительно князья московского дома, они и распоряжались этой частью Ростова. Как следствие такого положения следует рассматривать приобретение в Ростове Иваном Калитой с.Богородичского, превратившегося уже в отчинное владение его сыновей [27].
Итак, в 30 — начале 60-х годов XIV в. в Ростовском княжестве, с одной стороны, создаются очаги великокняжеских и собственно Московских владении и усиливается влияние великого князя [28], с другой — упрочивается власть Константина Васильевича, который долгое время выступает единственным главой своей земли [29]. Происходит нечто подобное тому, что ранее отмечалось в истории Нижегородского княжества, где союз Дмитрия Константиновича старшего с Москвой привел на первых порах к стабилизации внутреннего положения в княжестве.
Но объединительные тенденции в Ростове, отражавшиеся в
деятельности местного князя, вступали в противоречие с объединительной
политикой московских князей. И когда в 1360 г . малолетний Дмитрий Московский не
получил ханского ярлыка на Владимирское великое княжение, князь Константин
Ростовский захватил город. Краткое известие об этом ("князя Костянтина
весь Ростовъ") помещено в летописных сводах сразу же за сообщением о
приходе из Орды с пожалованием в Галич князя Дмитрия Борисовича [30],
что наводит на мысль о передаче "всего Ростова" Константину по
ханскому ярлыку. Под "всем Ростовом" следует разуметь, видимо, не
только собственно город Ростов, но и все Ростовское княжество в целом, где были
владения московских князей. Решившись на столь крутой шаг внутри княжества,
Константин Ростовский изменил и свою политическую ориентацию в общерусских
делах. Теперь он выступает заодно с великим князем Владимирским Дмитрием
Суздальским [31]
— соперником московского князя.
Но когда в 1363
г . Москва окончательно взяла верх над Дмитрием, настала
очередь и его ростовского союзника. В одном из ранних летописных сводов после
рассказа об изгнании москвичами Дмитрия Суздальского из Владимира было
записано: "Тако же надъ Ростовьскымъ княземъ" [32].
Хотя фраза очень лаконична, она позволяет строить некоторые догадки
относительно каких-то акций правительства Дмитрия Московского против
Константина Васильевича. Более определенные сведения на этот счет сохранились в
ростовском летописании. Под тем же 1363 г . там сообщалось, что "князь АндрЪй
Федоровичь приЪха изъ Переяславля въ Ростовъ, а съ ним князь Иванъ Ржевский съ
силою" [33].
Комментируя это известие, А.В.Экземплярский писал, что "Ржевские, как
известно, служили московским князьям, следовательно, и "великая
сила", шедшая с кн.Ржевским, была силою московскою, данною Андрею в помощь
против его дяди" [34].
Хотя довод А.В.Экземплярского о службе Ржевских Москве и слаб [35],
его основной вывод верен. Переяславль с 1362 г . был под контролем Дмитрия Московского,
он являлся частью его великокняжеской территории, и потому приход оттуда князей
Андрея, сына ростовского князя Федора Васильевича, и Ивана Ржевского в Ростов
ясно показывает, что за их спиной стояла Москва [36].
Да и "сила великая" не могла быть самостоятельно собрана ни Андреем
Ростовским, ни Иваном Ржевским.
Появление в Ростове Андрея Федоровича с московской ратью
привело к политическим переменам в княжестве. Под 1364 г . в ростовском
летописании сообщалось, что "того же лЪта поЪха князь Костянтинъ
Василиевичь на Устюгъ" [37].
После этих событий определение "Ростовский" прилагается в источниках
уже ко князю Андрею Федоровичу [38],
из чего становится ясным, что именно он стал ростовским князем. О судьбе Константина
Васильевича речь пойдет ниже. Здесь же следует подчеркнуть, что при Андрее
Федоровиче княжество не стало единым. Есть несомненные свидетельства о
феодальном дроблении Ростова в правление этого князя, скончавшегося в 1409 г .
Так, среди участников похода на Тверь в 1375 г . летопись называет
наряду с Андреем Федоровичем князя Василия Константиновича Ростовского и его
брата Александра Константиновича [39].
Очевидно, у каждого из них был свой особый полк, что делает весьма вероятным
предположение о существовании у братьев самостоятельных уделов, с которых они
собирали войско. Известны также ростовские двуименные монеты князей Андрея
Федоровича и Александра Константиновича [40].
Как ни интерпретировать их двуименность, несомненным будет то, что такая
особенность ростовского денежного чекана отразила деление власти, а также
территории Ростова в конце XIV — начале XV в. [41]
События 1363
г ., вероятно, вернули Москве Стретенскую половину
Ростова. Духовная грамота 1389
г . Дмитрия Донского вновь фиксирует в Ростове владение
московских князей с.Богородичское, впервые упоминаемое во втором завещании
Ивана Калиты [42].
По-видимому, сам Дмитрий Донской приобрел в Ростове с.Василевское [43].
Таким образом, приведенный материал ясно свидетельствует о том, что в Ростовском княжестве на протяжении XIV в. шел процесс феодального дробления, который заключался как в образовании уделов членов ростовской княжеской фамилии, так и в возникновении на территории княжества великокняжеских и московских владений. Однако этот процесс протекал иначе, чем представлялось А.Е.Преснякову. Постепенного нарастания вырождения ростовских князей не было. Владельческое членение ростовской территории шло скачкообразно. В 30—60-е годы XIV в. в Ростове окрепли силы, поддержавшие своего князя в борьбе за централизацию княжества. И лишь с начала 60-х годов XIV в. верх окончательно берут центробежные тенденции, и процесс распада Ростовского княжества на отдельные мелкие владения быстро нарастает. Такая судьба ростовской территории была тесно связана с основным фактором, характеризовавшим развитие всей Северо-Восточной Руси в то время: крупными политическими успехами московских князей, добившихся слияния территорий Московского княжества, великого княжества Владимирского и некоторых более мелких княжеств в одно целое и препятствовавших консолидации других княжеств.
Установив факт феодального членения ростовской территории уже со второго десятилетия XIV в., необходимо перейти к выяснению того, где именно находились инокняжеские и удельнокняжеские земли в Ростове.
География владений московских князей в Ростовском княжестве XIV в. определяется в исследовательских трудах по-разному. Так например, С.М.Соловьев, касаясь вопроса о местонахождении с.Богородичского, глухо писал о том, что это село было расположено к югу от Ростова [44]. В.Н.Дебольский, указав, что в его время в Ростовском уезде существовало два с.Богородицких, отказался от отождествления с одним из них с.Богородичского XIV века [45]. Не определил местоположения этого села и М.К.Любавский [46], хотя на карте и поместил Богородицкое на юго-восток от Ростова, т.о. в ином месте, чем предполагал С.М.Соловьев. Все приведенные суждения основывались на сходстве названия древнего села с наименованиями поселений XIX — начала XX вв. Такое основание довольно шатко, что наглядно демонстрирует разбираемый случай. При существовании в позднее время нескольких населенных пунктов с одинаковыми достаточно распространенными названиями правильно отождествить один из них с более ранним оказывается невозможным. Приходится прибегать поэтому к данным иного рода.
Писцовые описания первой половины XVII в. фиксируют в
Ростовском уезде Богородский стан. Он располагался по правому берегу р.Устьи, в
ее верхнем течении и по правому притоку Устьи р.Ильме, т.е. к западу от Ростова
[47].
Название стана явно произошло от названия поселения. Картографические материалы
конца XVIII в. фиксируют с.Богородское к юго-западу от Ростова [48],
а писцовое описание 1646 г .
упоминает это село в составе Богородского стана [49].
С с.Богородским XVII в. и следует идентифицировать с.Богородичское второй
духовной грамоты Ивана Калиты.
Относительно географии с.Василевского С.М.Соловьев писал, что оно было расположено к северо-востоку от Ростова [50]. В.Н.Дебольский предположительно отождествлял Василевское с с.Василевым, находившимся в 15 верстах от Ростова на р.Устье [51]. Основанием для такого решения ему послужило сходство названий сел [52]. Не ссылаясь на С.М.Соловьева, В.Н.Дебольский, видимо, повторил его догадку о местоположении древнего Василевского, посвольку к северу от Ростова по материалам XIX в. известно только одно село с похожим названием. Не отвергая в принципе заключений С.М.Соловьева и В.Н.Дебольского, необходимо указать и на возможность иного решения вопроса о местонахождении Василевского.
В списке с писцовой книги 1646 г . Ростовского уезда
упоминается крупное село Василево, относившееся к Верхоустецкому
(Верхоусецкому) стану [53].
К с. Василеву тянул ряд деревень, многие из которых сохранились и в XIX в. [54]
Их география свидетельствует о том, что с.Василево XVII в. - позднейшее село
Василево, центр второго стана Углицкою уезда [55].
Стояло Василево близ правого берега Устьи, в ее верхнем течении [56].
Недалеко от Василева было расположено упоминавшееся выше с.Богородское — центр
Богородского стана Ростовского уезда. Таким образом, намечается довольно
скромный по своим размерам район, говоря несколько условно — по правому берегу
р.Устьи, где по данным первой половины XVII в. находились села с теми же
названиями, что и принадлежавшие в XIV в. московским князьям. Это
обстоятельство дает некоторые основания полагать, что село Василевское духовной
грамоты 1389 г .
Дмитрия Донского — позднейшее село Василево близ Устьи. Если археологические
данные подтвердят существование названного села в XIV в., тогда можно
утверждать, что проникновение московских князей на росювскую территорию
началось, скорее всего, со стороны великокняжеского Переяславля, земли которого
подходили очень близко к верховьям рек Устьи и Ильмы [57].
Можно будет наметить и переяславско-ростовский рубеж.
По-видимому, во второй половине XIV в. в руки московских
князей попала ростовская слобода Святославль-Караш. Свидетельство об этом
содержится в грамоте Ивана III от 17 марта 1483 г . В документе есть
ссылка на предшествующую грамоту великого князя Василия Дмитриевича,
променявшего митрополиту Киприану Святославлю слободку па Алексин. При
оформлении меновной грамоты со стороны великого князя и со стороны митрополита
присутствовал ряд бояр. В числе великокняжеских послухов назван боярин Данил
Фофанович [58].
Этот видный сподвижник великого жнязя Василия Дмитриевича умер 13 февраля 1392 г . [59].
Следовательно, меновная грамота между великим князем и митрополитом была
составлена до 13 февраля 1392
г . С другой стороны, она не могла быть оформлена ранее 6
марта 1390 г .,
когда впервые при вокняжившемся Василии митрополит Киприан прибыл в Москву [60].
Иными словами, в период между 6 марта 1390 г . и 13 февраля 1392 г . слободой
Святославль-Караш уже владел великий князь Василий Дмитриевич. Ссылка же Ивана
III в грамоте 1483 г .
на то, что названной слободой "благословил прадед мой деда моего великого
князя" [61],
относит время владения Карашем московскими князьями к периоду правления Дмитрия
Донского. Поскольку в последней духовной этого князя Караш прямо не упоминается
[62],
необходимо признать, что он принадлежал к территории великого княжения
Владимирского и в качестве части великокняжеских владений в Ростове стал
достоянием Дмитрия Московского.
Как показал С.Б.Веселовский, территория древней Карашской слободы почти соответствовала территории Карашской волости Ростовского уезда XIX в. [63]. Последняя достаточно точно очерчена в работе А.А.Титова [64]. Судя по материалам второй половины XV в., древняя слобода Святославль-Караш лежала по левому берегу р.Нерли Клязьминской рядом с юрьевскими и переяславскими землями [65], т.е. территориями, бывшими во второй половине XIV в. под контролем великого князя владимирского. Отсюда, видимо, и шло великокняжеское проникновение в порубежные владения ростовских князей.
Основываясь на названиях некоторых поселений Карашской волости XIX в. (Астрюково, Караш), А.А.Титов предположил, что прежде эти поселения были монголо-татарскими [66]. С.Б.Веселовский, сначала оставив эту мысль А.А.Титова без внимания [67], впоследствии развил ее и написал, что "Караш некогда была татарской слободой, вероятно, первого полустолетия татарского завоевания Руси" [68]. Между тем древнейшим названием слободы является Святославль, или Всеславль [69]. А замечание А.А.Титова о том, что из всех ростовских волостей XIX в. Карашская "самая богатая лесом" [70], косвенно свидетельствует о позднем по сравнению с другими ростовскими волостями и слободами заселении территории Караша. Думается, само возникновение Карашской слободы надо относить к XIV в., скорее — к его середине, и связывать с тем ростом феодальноосвоенной территории Северо-Восточной Руси, какой ясно прослеживается в 40—50-е годы XIV в. на примере Московского княжества [71].
Если география владений московских и великих князей в
Ростовском княжестве XIV в. еще поддается некоторому определению, то выяснить,
какими центрами и территориями распоряжались на протяжении этого столетия
удельные ростовские князья, необычайно трудно. Имеются косвенные данные,
позволяющие назвать лишь один удельный город Ростовского княжества XIV в. —
Устюг. В XIII в. после распада отчины князя Константина Всеволодовича Устюг
вошел в собственно Ростовское княжество и оставался в его составе, как показано
было в главе II, до начала XIV в. Так продолжалось и позднее. Справедливость
сказанного в известной степени подкрепляется уже приводившимся летописным
известием 1364 г .
о поездке "па Устюгъ" князя Константина Васильевича, до 1363 г . княжившего в
Ростове. Из данного свидетельства следует, что Устюг по-прежнему был связан с
Ростовом. Правда, в таком раннем источнике, как Новгородская I летопись
старшего извода, сообщалось, что в 1324 г . при походе на Заволочье князь Юрий
Данилович Московский вместе с новгородцами "взяша Устьюгъ на щитъ, и
придоша на Двину, и ту прислаша послы князи устьюжьскыи къ князю и к
новгородцемъ и докончаша миръ по старой пошлинЪ" [72].
А под 1329 г .
в том же источнике отмечено, что "той же зимы избиша новгородцевъ, котории
были пошли на Юргу, устьюжьскыи князи" [73].
Упоминание устюжских князей дало повод некоторым исследователям считать, что
Устюг был "независимым владением в Ростовском уделе" [74].
Но если поставить вопрос о том, кто были по своему происхождению упомянутые в
новгородском летописании "князи устьюжьскыи", то придется признать,
что ими должны были быть представители ростовского дома. А в 20-е годы XIV в.
из ростовских князей могли жить только Иван Дмитриевич и Василий Константинович
и, несомненно, здравствовали дети последнего — Федор и Константин. О потомстве
Ивана Дмитриевича ничего не известно. Вероятно, он умер бездетным. Поэтому если
он и имел владения в Устюге, то не один, т.к. в летописи речь идет об устюжских
князьях во множественном числе. Скорее, Устюгом управляли сыновья Василия
Константиновича (одни или вместе с Иваном Дмитриевичем), те самые, которые
поделили между собой Ростов. А поскольку они имели владения в самом Ростове,
становится ясным, что в то время Устюг политически и территориально не
обособлялся от Ростова.
Центром удела он стал, по-видимому, с 1364 г . Комментируя известие
об отъезде в 1364 г .
на Устюг князя Константина Васильевича, А.В.Экземплярский писал, что ростовский
князь отъехал туда затем, чтобы "не быть на виду у своих врагов, чтобы не
накликать на свою голову еще горших неприятностей" [75].
Однако такое объяснение, чисто психологического характера, возбуждает сомнения.
И порождает их документ, относящийся ко времени более чем на сотню лет позднее
упомянутого события.
Речь идет об известном Списке Двинских земель, составленном в 70-е годы XV в. В этом документе упоминаются некоторые бывшие владения ростовских князей: "Емьская гора да Лель рЪка с верховна до устиа по обЪ стороны, а от устиа от Ледского по ВазЪ вниз Шоговаръ, Боярьскои наволок до усть-Сюмы, а по другой сторонЪ Ваги от устиа от Ледского Кошкара, Молонда, КЪрчала с наволоком; а от Сюмы по ВазЪ вниз по обЪ стороны Ваги до устиа Сметанин наволок, Онтрошиев наволок, БЪлои пЪсок, Тавно озеро, да Сюмачь, да Сенго со всЪми угодии — то была вотчина княжа Иванова Володимировича Ростовского"; "А Заостровие Соколово, да селцо по Козлову врагу, да на Безатскую сосну, да Кодима, да Пучюга, да Иксоозеро, да Плесо, да Юмышъ от устиа и до верховиа до обЪ стороны вотчина была княжа Федорова Андреевича Ростовского"; "А Веля да ПЪжма рЪки по обЪ стороны от устеи и до верховеи и до Ярославского рубежа и с малыми рЪчками, которые в них втекли, — Тявренга, Подвига, Шоноша, Синега, слободка Морозова, слободка Косткова, — то земли были княжи Ивановы Александровича Ростовского"; "А от усть-Кулуя вверхъ по ВазЪ до Ярославского рубежа, по рЪкЪ по ТерменгЪ вверхъ и по ДвиницЪ вверхъ Жары, Липки, Шолаты, — то земли были княжи Ивановы Александровича Ростовского"; "А Каменная гора по рЪцЪ по КокшенгЪ, по обЪ стороны Кокшенги до устиа Пукюма, Савкино, Ракулка, Пустынка... А земли то были княжи Ивановы Александровича Ростовского"; "А рЪка Колуи от устиа и до верховна по обЪ стороны, да волок от Кокшенги — то была отчина княжа Иванова Володимеровича Ростовского; а тянула къ Емскои горЪ"; "А за рЪкою за Двиною Хавры-горы, Задвиние, Пингиш, Челмахта, рЪчка СЪя, — то было княже Костянтиново Володимировича Ростовского" [76]. Всего в документе XV в. перечислено семь районов русского Севера, которыми в свое время владели четыре ростовских князя. География этих районов выясняется на основании данных XVII—XIX вв.
Владения князя Ивана Владимировича простирались по обе стороны р.Леди, от ее верховьев до впадения в р.Вагу, и далее вниз по обоим берегам Ваги до ее устья. Река Ледь — левый приток Ваги в ее нижнем течении [77]. Картографические материалы XVIII в. фиксируют и р.Сюму, впадающую слева в Вагу, несколько ниже Леди. Справа в Вагу выше сюмского устья впадает р.Мулонда. Это, несомненно, Молонда XV в. А южнее Мулонды (Молонды) на карте показана р.Коскара, берущая свое начало из оз.Лум [78]. Река Коскара отождествляется с Кошкарой Списка Двинских земель. Следовательно, подвластная князю Ивану Ростовскому территория охватывала низовья р.Ваги. Центром очерченной территории служил погост Емьская гора, стоявший в нижнем течении Леди [79]. К этому же погосту административно относились и другие земли князя Ивана Владимировича Ростовского: по обоим берегам р.Колуя на всем протяжении реки, а также волок, связывавший Колуй с р.Кокшенгой. Река Колуй Списка XV в. называлась также Кулоем [80]. Под последним наименованием она известна и позднее [81]. Это правый приток Ваги в ее верхнем течении. Река Кокшенга также является правым притоком Ваги, но впадает в нее гораздо ниже Кулоя [82]. Следовательно, эта часть отчины Ивана Владимировича не граничила с его владениями в низовьях Ваги.
Местоположение земель князя Федора Андреевича Ростовского определяется прежде всего по р.Юмышу, принадлежавшей этому князю с верховьев до устья. Эта река является левым притоком Северной Двины [83]. Л.А.Зарубин отождествил и все другие гидронимы и топонимы на территории, некогда подвластной князю Федору Андреевичу [84]. Оказывается, отчина этого князя простиралась на довольно значительное пространство по левому берегу Северной Двины, на западе гранича с землями князя Ивана Владимировича.
Весьма обширны были владения князя Ивана Александровича Ростовского. Ему принадлежали земли в бассейнах рек Вели и Пежмы — левых притоков Ваги [85]. Кроме того, ему принадлежало верховье Ваги вплоть до впадения в нее р.Кулоя, а также земли по правым притокам верхней Ваги рекам Терменге и Двинице [86]. На юге в самом верховье Ваги и на западе между истоками рек Вели и Кубены земли этого ростовского князя граничили с землями ярославских князей. Князь Иван Александрович владел территорией и по Кокшенге: от Каменной горы до устья Пукюмы и до впадения Кокшенги в Вагу [87]. Каменная гора была расположена на левом берегу Кокшенги, почти посередине ее протяженности [88]. Следовательно, владения Ивана Александровича Ростовского соприкасались с землями князя Ивана Владимировича по Кулою, охватывая их широкой подковой с запада, севера и отчасти востока.
Наконец, отчина ростовского князя Константина Владимировича протянулась на довольно значительное пространство по левому и правому берегам Северной Двины и ее притокам: р.Сие (левому притоку), рекам Пингише и Челмахте (правым притокам) [89]. На юге земли князя Константина по правому берегу Северной Двины близко подходили к владениям князя Ивана Владимировича.
В целом, по данным 70-х годов XV в., владения ростовских князей в Двинской земле образовывали два крупных территориальных комплекса: один по верхнему и среднему течению Ваги, включая бассейны ее левых и отчасти правых притоков; другой — по нижнему течению Ваги и среднему течению Северной Двины [90]. Составляли ли оба комплекса в свое время единое целое, сказать трудно, но очевидно, что само существование таких комплексов свидетельствует о том, что ранее каждый из них не был раздроблен и принадлежал какому-то одному князю. Чтобы выяснить личности этих князей (или личность одного кпязя — предка), необходимо определить родословие упоминаемых в Списке Двинских земель ростовских князей.
Поскольку каждый из них родился до 70-х годов XV в., круг
поисков резко сужается и родословные всех четырех князей устанавливаются
сравнительно легко. Так, князь Иван Александрович, — очевидно, отец того Ивана
Ивановича Долгого, который вместе со своими родственниками продал
Борисоглебскую половину ростова Ивану III в 1474 г . Отец князя Ивана
Александровича — Александр, сын Константина Васильевича [91].
Князь Иван Владимирович, владения которого по р.Кулою граничили с владениями
Ивана Александровича, несомненно, двоюродный брат последнего, сын младшего из
сыновей Константина Васильевича Владимира [92].
Князь Константин Владимирович, земли которого на Северной Двине, видимо,
соседили с землями Ивана Владимировича на нижней Baге, был родным братом Ивана [93].
Он умер 9 января 1415 г .
[94]
Остается определить генеалогию последнего князя — Федора Андреевича. До 70-х
годов XV в. с таким именем и с таким отчеством известны два ростовских князя.
Один, более старший, был внуком Федора Васильевича [95].
Другой являлся внуком Александра Константиновича [96].
Поскольку три ростовских князя, упоминаемые в Списке Двинских земель,
принадлежали к потомству Константина Васильевича, надо полагать, что и
названный там Федор Андреевич принадлежал к той же линии князей, т.е.
приходился правнуком Константину Васильевичу.
Происхождение всех четырех ростовских князей, владевших землями по Baге и Северной Двине, от одного родоначальника, соседство их владений дают основание считать, что прежде эти владения принадлежали одному лицу — именно Константину Васильевичу Ростовскому, тому самому, который в 1364 году отъехал в Устюг. Среди ростовских владений на русском Севере XIV—XV вв. Устюг оставался единственным крупным центром. Ему и должны были административно подчиняться ростовские волости по Baге и Северной Двине.
Таким образом, благодаря данным XV в. открывается
возможность интерпретировать известие 1364 г . о поездке князя Константина "на
Устюгъ" совершенно иначе, чем предлагал А.В.Экземплярский. Становится
очевидным, что после успеха в 1363
г . опиравшегося на Москву князя Андрея Федоровича
Ростовского в споре с Константином Васильевичем последний потерял ростовский
стол и вынужден был отправиться па княжение в Устюг. Устюг и относившиеся к
нему земли стали с 1364 г .
удельными владениями Константина [97]
и его сыновей, а позднее и внуков.
Помимо Устюга может быть названо еще одно удельное ростовское княжество XIV в. Оно определяется на основании решения одной историко-географической загадки, до сих пор не находившей в литературе своего объяснения. Речь идет о владениях неких князей Юрия Ивановича и его сына Семена, выдавших жалованные грамоты властям Покровского Дионисиева Глушицкого монастыря. В третьем томе "Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси" эти документы напечатаны с подзаголовком "сомнительные". Составитель тома И.А.Голубцов так мотивировал свое решение: "Сомнение проистекает из того, что все они (т.е. акты. — В.К.) говорят... о кн.Юрии Ивановиче и об его сыне Семене Юрьевиче, из которых первый был якобы современником Дионисия Глушицкого, т.е. жил в первых десятилетиях и, м.б., середине XV., а второй тогда приходился бы на середину и примерно вторую половину XV в. Между тем ни Экземплярский, ни кто-либо другой до сих пор не могли, сколько ни старались, найти для того времени князей с такими именами..." [98]. Всего публикатор напечатал 5 актов неизвестных князей, причем только один акт к настоящему времени сохранился в подлиннике [99]. Из содержания этого документа с бесспорностью вытекает, что существовали князья Юрий Иванович и его сын Семен Юрьевич. А ознакомление со всей группой грамот убеждает в том, что это были суверенные князья, земли (или по крайней мере часть земель) которых находились рядом или поблизости от полей и угодий, принадлежавших Глушицкому монастырю. В Житии основателя этого монастыря Дионисия, составленном не позднее конца XV в. [100], имеется особая статья, рассказывающая о князе Юрии Бохтюжском. Последний будто бы предлагал материальную помощь Дионисию, на что тот уклончиво отвечал: "яко же въсхощеть твое дръжавство" [101] — намек, что Юрий обладал самостоятельной "державой", т.е. был владетельным князем. Далее в Житии рассказывается, что Юрий "заповЪда сыновом своимъ не преобидЪти, яже суть монастырю потребна" [102]. Исследователи уже давно отождествляли князя Юрия Бохтюжского Жития Дионисия Глушицкого с князем Юрием Ивановичем, фигурирующим в грамотах Глушицкому монастырю [103]. Такое отождествление нельзя не признать верным. Оно позволяет сделать ряд других выводов.
Рассказ о Юрии Бохтюжском помещен в Житии Дионисия после
рассказа о событии 1422 г .
и до рассказа о событии 1427
г . [104],
из чего можно заключить, что князь Юрий жил в 20-х годах XV в. К тому времени у
него уже было несколько сыновей. Принимая Юрия Бохтюжского и Юрия Ивановича
"сомнительных" грамот за одно лицо, можно приблизительно рассчитать
время, когда жили отец Юрия, князь Иван, сам Юрий и его сын Семен. Очевидно, что
Юрий родился где-то в конце XIV или начале XV в. Его отец, Иван, жил во второй
половине XIV в., а сын Юрия Семен мог родиться в начале XV в. и жить во второй
половине XV в. Судя по прозвищу Юрия, Бохтюжский, его владения лежали по
р.Бохтюге, левому притоку Сухоны [105],
а судя по грамотам Дионисиеву монастырю, эти владения захватывали течение
протекавшей восточное Бохтюги р.Глушицы [106],
на которой стоял сам монастырь, а также, вероятно, и верхнее течение Сухоны [107],
куда впадали обе реки. расположение "державы" князя Юрия Бохтюжского,
соседство его земель с отчинами ярославских Заозерских князей [108]
заставляли исследователей видеть в князе Юрии, его отце и сыне представителей
той же ярославской княжеской фамилии. Но среди ярославских князей не известны
жившие во второй половине XIV—XV вв. князья Иван, Юрий и Семен. Это и приводило
к серьезным сомнениям в подлинности указанных актов Дионисиева Глушицкого
монастыря и, следовательно, в существовании особого Бохтюжского княжества.
Однако три князя, которые носили те же имена, что и князья
грамот, находились между собой в тех же степенях родства и жили в определенное
выше время, могут быть названы. Это старший сын ростовского князя Андрея
Федоровича, потомка Василия Константиновича, Иван, старший сын Ивана Юрий Немой
и единственный сын последнего Семен [109].
Поскольку Андрей Федорович вступил в брак в 1350 г . [110],
князь Иван Андреевич явно жил во второй половине XIV в., а его сын и внук
вполне могли жить в XV в. Такие совпадения трудно признать случайными. Поэтому
можно с полным основанием утверждать, что Бохтюжское княжество существовало
реально. Принадлежало оно ростовским князьям.
Возникает, однако, вопрос, почему старшая ветвь Андрея
Федоровича, в 1363 г .
ставшего первым среди ростовских князей, княжила в малоизвестном уделе. Ответ
может быть только один. Очевидно, старший сын князя Андрея Иван получил
Бохтюжский удел еще при жизни отца, а отец передал ему то, чем владел сам до
своего утверждения в Ростове. Тем самым открывается возможность объяснить, хотя
и гипотетически, где находился князь Андрей Федорович в 30—60-е годы XIV в.,
когда в Ростовском княжестве правил его дядя Константин Васильевич.
Какими уделами владели в XIV в. другие ростовские князья, в
частности упомянутый под 1375
г . Василий Константинович, сказать невозможно из-за
отсутствия данных. По этой же причине нельзя установить и точных границ
Ростовского княжества на всем его протяжении в названном столетии. Но на
отдельных участках эти границы определяются достаточно четко. На юге рубеж
Ростова с Юрьевским княжеством и великим княжеством Владимирским совпадал с
пределами Карашской слободы. Участок ростовско-тверской границы на западе
рассматривался в главе четвертой.
* * *
Единичны сведения об Углицком княжестве в XIV в. В начале
XIV в. оно еще сохраняло свою самостоятельность, поскольку есть известие, что
севший в 1294 г .
на углицкий стол князь Александр Константинович в 1302 г . женился [111].
Следовательно, в указанное время этот князь был жив, и нет оснований думать,
что он перестал княжить в Угличе.
Под 1320
г . летописи, как уже отмечалось, сообщают о смерти Юрия
Александровича Ростовского [112],
в котором А.В.Экземпляркий справедливо видел сына Александра Константиновича [113].
Сохраненное летописными сводами прозвище князя Юрия — Ростовский — дало
основание А.В.Экземплярскому утверждать, что этот князь занимал собственно
ростовский стол [114].
Такой вывод кажется слишком решительным, но несомненно, что прозвище Юрия
говорит о его княжении не в Угличе, а где-то в Ростове. Из последнего факта
можно заключить, что к 1320 г .
самостоятельного Углицкого княжества уже не существовало. Поскольку и раньше
Углич был связан с Ростовом, надо полагать, что примерно в первом-втором
десятилетиях XIV в. Углицкое княжество вошло в состав Ростовского.
По свидетельству духовной грамоты 1389 г . Дмитрия Донского,
Углич был "куплен" Иваном Калитой [115].
Видимо, судьба Углича была похожа на судьбу Галича: Калита получил на Углич
особый ярлык, отдававший княжество под его временное управление.
"Купля" князя Ивана Даниловича произошла, очевидно, не ранее конца
20—начала 30-х годов XIV в., когда Калите досталась сначала половина великого
княжества Владимирского, а затем и все княжество в целом. То, что Углич от
ростовских князей перешел к Ивану Калите, косвенно свидетельствует о
существовании углицкой территории как особой административной единицы в рамках
Ростовского княжества в 10—20-х годах XIV.
По-видимому, в руках великих князей из московского дома
Углич оставался и после смерти Ивана Даниловича. Может быть, какой-то перерыв
наступил в 1360—1362 гг., когда великокняжеский владимирский стол занимал
суздальский князь Дмитрий Константинович. После утверждения во Владимире в 1362 г . Дмитрия Ивановича
Московского, объявившего великое княжество своим наследственным владением,
такая же судьба постигла, вероятно, и Углич. Во всяком случае, боровшийся за
Владимирское великое княжество с Дмитрием Московским тверской князь Михаил
Александрович в 1371 г .
сжег Углич [116],
что говорит о распространении власти князя Дмитрия на этот город. А в духовной
грамоте 1389 г .
Дмитрий Донской уже законодательно закрепил Углич и углицкую территорию за
своим потомством [117].
Никаких данных о размерах и пределах Углицкого княжества в XIV в. в распоряжении исследователей нет. Можно лишь указать на восстанавливаемую по сведениям XV—начала XVI в. часть углицко-тверского рубежа, видимо, имевшего значительную древность.
* * *
С севера и северо-востока к землям Ростова и Углича примыкала территория Ярославского княжества. В XIV в. это княжество было самым значительным из всех, на какие распалась древняя отчина Константина Всеволодовича. Не случайно, что именно здесь во второй половине XIV в. был основан Романов [118] — единственный город в пределах бывших Константиновых владений, поставленный в послемонгольское время [119].
В существующей литературе характеристика ярославской территории в XIV в. основывается главным образом на сведениях родословных книг. Дело в том, что росписи ярославских князей содержат их прозвища, которые нередко происходили от географических названий, и это позволяло определить входившие в состав Ярославского княжества и с течением времени становившиеся удельными владения местных князей. Есть в росписях и прямые упоминания ярославских уделов.
Основываясь на родословных книгах, исследователи приходили
к выводу о том, что Ярославское княжество было единым до начала третьего
десятилетия XIV в. В 1321 г .,
когда умер ярославский князь Давыд Федорович [120],
княжество распалось. Старший сын Давыда Василий остался княжить в Ярославле, а
младший Михаил перешел в Мологу [121].
При детях Василия Давыдовича Василии, Глебе и Романе Ярославское княжество
раздробилось еще более. Василий наследовал отцу, Глеб и Роман получили уделы,
расположение которых устанавливалось уже по прозвищам их потомков [122].
Однако родословные росписи ярославских князей являются источником поздним, а потому не вполне надежным при воссоздании процесса развития и членения государственной территории Ярославского княжества в XIV в. Необходима корректировка данных росписей свидетельствами летописных сводов и актов, а в отдельных случаях — и синодика московского Успенского собора, сообщающего прозвища некоторых ярославских князей [123].
Известия летописей заставляют внести поправки прежде всего
в представление о раннем феодальном дроблении ярославской территории. Хотя
умерший в 1299 г .
Федор Ростаславич Черный имел двух сыновей, Давыда и Константина, последний,
по-видимому, княжеского стола не занимал [124].
Ярославль принадлежал одному Давыду Федоровичу. О старшем сыне последнего,
Василии, имеется несколько известий в летописных сводах. В 1340 и 1342 гг.
Василий Давыдович вместе с другими русскими князьями ездил в Орду, очевидно,
для получения или подтверждения там ярлыка на свое княжество [125].
Зимой 1340/41 г. он участвовал в общерусском съезде в Москве и походе на Торжок
[126].
Перечисленные политические акции, в которых выступал Василий Давыдович, по
меньшей мере говорят о том, что именно этот князь стоял во главе Ярославского
княжества. Если к сказанному добавить, что Иван Калита выдал за внязя Василия
свою дочь Евдокию [127],
то первенствующее положение старшего сына Давыда Федоровича в ярославском
княжеском доме станет вполне очевидным. Поэтому естественным будет
предположение о сосредоточении в руках князя Василия власти над всей
территорией Ярославского княжества.
Правда, на эту территорию, по-видимому, покушался Иван
Калита. Новгородская летопись сохранила известие о том, что, когда в 1339 г . Василий Ярославский
отправился в Орду, Калита выслал большой отряд "въ 5 сот переимать, нь
отбися их" [128].
Ярославский князь пошел к хану вместе с белозерским князем Романом [129].
Такая совместная поездка, стремление Калиты помешать ей наталкивают на мысль,
не был ли вызван междукняжеский конфликт расширением владений великого князя
Ивана Даниловича в районе Вологды, что ущемляло интересы как Романа
Белозерского, так а Василия Ярославского, владевшего Кубеной и Заозерьем, т.е.
землями, прилегавшими к Кубенскому озеру.
Что касается младшего брата Василия Давыдовича, Михаила, то
впервые он упоминается в летописи под 1340 г ., причем не как ярославский или
моложский князь, а как наместник великого князя в Торжке [130].
И это свидетельство в сочетании с приведенными фактами, рисующими
главенствующую роль князя Василия Давыдовича, позволяет утверждать, что
феодального дробления территории Ярославского княжества в тот период еще не
было. Под рукой князя Василия оно сохраняло свое единство.
Василий Давыдович умер в 1345 г . [131]
Судя по родословным книгам, ему наследовал его старший сын Василий [132].
Однако в летописных сводах Василий Васильевич как ярославский князь впервые (и
единственный раз) упоминается только в 1375 г ., т.е. 30 лет спустя после смерти отца,
среди участников похода на Тверь [133].
В промежутке между 1345 и 1375 гг. с прозвищем Ярославский на страницах
летописей выступает иной князь, именно Михаил. "Князь Михаило
Ярославскии" назван в числе русских князей, которые в 1361 г . ходили в Орду к
только что провозглашенному там ханом Хызру, чтобы тот утвердил их на своих
столах [134].
Речь несомненно идет о князе Михаиле Давыдовиче, младшем сыне Давыда
Федоровича. И прозвище этого князя, и право его непосредственного сношения с
Ордой указывают на то, что он владел не Мологою, как обычно считают, а самим
Ярославлем. Очевидно, по смерти князя Василия ярославский стол перешел не к
старшему сыну последнего, а к брату Михаилу. (См. рис. 10).
Рис.10. Ярославское княжество в начале XIV в.
Ко времени правления Михаила относится древнейшее
свидетельство об уделе в Ярославском княжестве. Видимо, еще при жизни Михаил
передал старшему из своих сыновей Мологу [135],
которая вскope стала центром самостоятельного княжества. Возможно, какие-то
уделы получили и три сына Василия Давидовича. Но это только предположение. Ясно
проследить деление территории собственно Ярославского княжества удается лишь со
времени внуков Давыда Федоровича, т.е. примерно с 60-х годов XIV в. Бесспорное,
хотя и косвенное, свидетельство о существовании ярославских уделов содержится в
описании тверской войны 1375
г ., где среди участников похода — союзников Дмитрия
Московского — названы Василий и Роман Васильевичи Ярославские, а также Федор
Михайлович Моложский [136].
Правда, свидетельство это довольно абстрактно. Конкретные владения Васильевичей
могут быть определены на основании данных об уделах и вотчинах, принадлежавших
уже их потомкам. Но даже такие поздние данные позволяют составить представление
как о территориях первых ярославских уделов, так и о территории Ярославского
княжества в целом.
Согласно показаниям родословных росписей ярославских князей, старший сын Василия Давидовича Василий "был на большем княженье на Ярославле" [137]. У Василия было 5 сыновей: Иван, Федор, Семен Новленский, Дмитрий Заозерский и Иван Воин [138]. Ярославль наследовал старший сын — Иван [139]. Однако известий o землях Ивана не сохранилось. Есть лишь некоторые сведения о владениях его сыновей и внуков.
В составленной в XVII в. Кормовой книге ярославского Толгского монастыря упоминается князь Роман, который "дал вкладу... деревню Куколцыно и со всеми угодьи по своей душе и по своих родителех в вечное поминание..." [140]. На эту же деревню сохранилась жалованная грамота Толгскому монастырю князя Федора Федоровича, подписанная князем Семеном Федоровичем [141]. Изучение грамоты показывает, что это подлинник, написанный, судя по палеографическим признакам, в самом конце XV или начале XVI в. [142] Единственные ярославские князья с именами Федор и Семен, жившие в тот период и находившиеся между собой в близкой степени родства, — это Федор Федорович Алабыш и его сын Семен [143]. Дедом князя Ф.Ф.Алабыша был первенец Ивана Васильевича, князь Роман [144], который упоминается в Кормовой книге. Ему, а возможно и самому князю Ивану, принадлежала д.Кукольцыно.
Относительно местоположения этой деревни И.А.Голубцов писал, что она стояла там, где находилась д.Куклино XIX в. — в 9 верстах к юго-востоку от г.Рыбинска [145]. Основанием для такого заключения послужил Список населенных мест Ярославской губернии, в котором Кукольцына нет, а есть близкое к нему название Куклино [146]. Но Кукольцыно фигурирует не только в Кормовой книге. В Выписи из дозорных книг 1612/13 г. Юрия Редрикова и подьячего Михаила Нестерова на вотчины Толгского монастыря среди его владений названо сельцо Хиново и указано, что "к той же деревне [147] припущено в пашню пустошь Куковцыно" [148]. Куковцыно — единственное наименование в Выписи, которое сходно с названием Кукольцыно. Некоторое расхождение в топонимах объясняется, скорее всего, небрежностью копиистов XVII в., принявших выносную букву "л" за "в". В палеографии XVII в. такие случаи нередки. Согласно Выписи, Кукольцыно находилось близ сельца Хинова. Последнее, в XV в. бывшее деревней [149], существовало и в XIX в. [150] Стояло Хиново близ верховьев р.Шиголости, левого притока Волги [151]. По соседству с ним, а вовсе не под Рыбинском, была расположена д.Кукольцыно. По-видимому, это владение князя Романа Ивановича входило в число земель, составлявших административную округу Ярославля.
Сохранились сведения о некоторых владениях сыновей князя
Романа. Так, князю Федору Романовичу принадлежало с.Семеновское Мишакова,
которое он пожертвовал в монастырек св.Николая на р.Которосли, "на
Глинищах" [152].
Местонахождение с.Семеновского Мишакова осталось неизвестным издателю грамоты
Николаевского "на Глинищах" монастыря И.А.Голубцову [153].
Между тем в Выписи из ярославских книг "письма и дозору Андрея Игнатьевича
Вельяминова да подьячего Ермолая Кашина" 1620 г . упомянута вотчина
ярославского Спасского монастыря "село Меленки на реке на Которосли на
Глинищах, а в нем церковь Никола Чюдотворец", к которой была приписана
д.Семеновская [154].
Очевидно, эта деревня была ранее селом Семена Мишакова. Стояла она рядом с
деревнями Копосова, Башарина, Березовая, Бурцева, Тивигина на первом ямском
рубеже от Ярославля, в семи верстах к юго-западу от города [155].
В первой половине XV в. князь Федор Романович выступил
послухом при оформлении данной грамоты в Троице-Сергиев монастырь на пустошь
Гилевскую [156].
Позднее пустошь стала деревней [157].
Расположено было Гилево в 8 км
к югу от Нерехты [158].
Близ Гилева и сейчас проходит граница между Ярославской и Костромской областями
[159].
Едва ли она колебалась в больших пределах на протяжении столетий. И то, что
князь Федор был свидетелем при составлении данной грамоты на близкие к Нерехте
земли, косвенно свидетельствует о том, что его собственные владения
располагались где-то рядом, очевидно в порубежном с Нерехтой районе
Ярославского княжества.
В уже упоминавшейся Выписи из ярославских писцовых книг
А.И.Вельяминова и Е.Кашина 1620
г . названо принадлежавшее ярославскому Спасскому
монастырю с.Борщовское, бывшая деревня Борщовка, или Жабинская слобода, оно же
Поречье Глазеево на р.Иневеже. К нему был приписан ряд деревень и пустошей, в
том числе д.Василевская на р.Шакше [160].
О всем комплексе земель с центром в Борщовском сказано, что монастырь владеет
им по "княж Федоровы Романовича княини Анастасии да ее детей по княж
Федорове да по княж Олександрове по данои грамоте" [161].
Из записи становится очевидным, что в свое время с.Борщовское принадлежало
князю Федору Романовичу. Местоположение Борщовского, относившихся к нему
деревень и пустошей в научной литературе до сих пор выяснено не было [162].
Однако карты XVIII в. фиксируют на юго-восток от Ярославля р.Иневежу (Инивишку)
— левый приток р.Кисмы, протекавшую несколько западнее р.Шакшу (Шокшу) — левый
приток р.Туношны (Туношмы), а также д.Жабино, стоявшую на безымянном ручье по
левому берегу р.Инивишки [163].
Очевидно, д.Жабино и есть старая Жабинская слобода, она же д.Борщовка и
с.Борщовское — бывшее владение князя Федора Романовича.
Младшему брату Федора князю Семену Романовичу принадлежало 15 пожен по р.Которосли [164]. Местонахождение этих пожен определяется по стоявшей на той же реке позднейшей д.Медведково, наименование которой повторяет название одной из пожен [165]. Деревня была расположена в 14 верстах от Ярославля, следовательно, речь должна идти о пригородных угодьях князя Семена. Ему же принадлежали острова Полник и Малой на Волге, которые в 1503/04 г. он отдал ярославскому Спасскому монастырю [166]. Оба острова также находились вблизи Ярославля [167].
Важное значение для определения территории и рубежей не только удела XIV в. князя Василия Васильевича, но и самого Ярославского княжества имеет география владений XVI в. князей Сисеевых — потомков князя Семена Романовича. Сисеевым принадлежали обширные земли к востоку от Соли Малой и Соли Большой между реками Солоницей и Черной, правыми притоками Волги, по рекам Княгининке, Вокшеданке (Вокшенданке), Долматовке, Сордашке, Бузлойке и Черной с центрами в селах Левашове и Красном [168]
Точно такой же смысл приобретает и локализация родовых вотчин князей Троекуровых — потомков родного брата Федора и Семена Романовичей, второго сына князя Романа Ивановича Льва [169]. Согласно писцовой книге Ярославского уезда 1626—1629 гг., за князем Борисом Ивановичем Троекуровым была записана вотчина его отца, князя Ивана Федоровича Троекурова. Эта вотчина, в 20-х годах XVII в. состоявшая из 3 сел, 1 слободки, 71 деревни, 3 починков и 38 пустошей, лежала в бассейне Туношны (Туношмы), правого притока Волги, захватывая часть волжского правобережья [170].
Наконец, одному из внуков князя Ивана Васильевича князю Даниилу Васильевичу, принадлежало с.Вышеславское [171]. И.А.Голубпов предположительно отождествлял это село с находившимся в 30 верстах от Ярославля с.Вышеславским XIX в. [172] Заключение исследователя надо признать не гипотетическим, а вполне точным. Дело в том, что по актам XV в., в межах с землями с.Вышеславского находились земли сел Ставатинского [173] и Унемерского [174]. На картах все три села показаны рядом в среднем течении Которосли, в ее правобережье [175]. Следовательно, Вышеславское XV в. — именно то, о котором писал И.А.Голубцов.
О двух сыновьях князя Ивана Васильевича — Якове-Воине и Семене — известно, что первый из них владел Курбой, а второй имел прозвище Курбского [176], из чего следует, что их земли лежали по р.Курбе, правому притоку р.Пахны [177].
Таким образом, судя по ряду владений потомков князя Ивана Васильевича, этот старший сын Василия Васильевича Ярославского, помимо собственно Ярославля, владел землями, расположенными, говоря обобщенно, к югу от этого города. Вероятно, отдельные владения были у него и на левом берегу Волги, к северо-востоку от Ярославля.
Второй сын князя Василия Васильевича, Федор, сменил брата Ивана на ярославском столе [178]. Следовательно, в его распоряжении были какие-то села и деревни, по крайней мере близ Ярославля. Ему же принадлежали земли в одном небольшом районе между р.Кубеной и оз.Кубенским, включая среднее течение правого притока Кубены р.Кихты, все течение другого правого притока Кубены р.Сонболки и левое побережье р.Яхренги, правого притока Кихты [179].
Третий сын князя Василия, Семен Новленский, владел волоком и лесом между оврагами Чернским и Стариковским близ дороги из Ярославля на Углич [180]. Угодья князя Семена располагались около р.Которосли и примыкали к городским ярославским землям [181]. Овраг Стариковский находился на юго-западной окраине г.Ярославля. Он тянулся от дороги на Углич до Которосли [182]. По его правую сторону (в этом направлении) и лежали владения князя Семена. Конечно, названные подгородные места не могли быть основной отчиной Семена Новленского, и исследователи искали ее в иных районах княжества. Так, А.В.Экземплярский, основываясь на Житии Александра Куштского, полагал, что "уделы сыновей кн.Василия Васильевича лежали в бассейне р.Шексны и Кубенского озера. В Пошехопском уезде и теперь есть два селения, носящих название "Новленское"" [183].
Указав далее даже не два, а три села Новленских (два в
Пошехонье, в 1 и 42 верстах от уездного города, и одно в Сямской волости
Вологодского уезда), историк предложил видеть в одном из них центр Новленского
удела [184].
Однако территория, на которой возник г.Пошехонье, ранее была территорией
Белозерского княжества. Поэтому с.Новленское на р.Соте в 1 версте от
г.Пошехонья [185]
не могло относиться к Ярославскому княжеству. Другое пошехонское Новленское
имело второе (и основное) название — Новое [186].
Оно лежало в непосредственной близости к землям, которые в XVI в. были
вотчинным владением князей Согорских — потомков белозерских князей [187].
Даже если село Новое — Новленское XIX в. существовало в XIV—XV вв., в чем
приходится серьезно сомневаться, поскольку это село не отмечено на картах XVIII
в., оно все равно должно было принадлежать тому же Белозерскому, а не
Ярославскому княжеству. Что касается третьего Новленского, указанного А.В.Экземплярским,
то Сямская волость, где находилось это село, согласно духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Донского,
считалась наследственным достоянием московских князей [188].
Понятно, что сямское Новленское не могло иметь никакого отношения к
ярославскому Повленскому уделу.
Ошибочным оказывается и общее представление А.В.Экземплярского о местонахождении вотчин новленского князя близ оз.Кубенского и в бассейне р.Шексны. Обратившись к Житию основателя Успенского монастыря на р.Куште, близ Кубенского озера, Александра, А.В.Экземплярский встретил там упоминание князя Семена, который давал вклады в Куштский монастырь, и решил, что речь в памятнике идет о Семене Васильевиче Новленском. Отсюда и последовало заключение о географии удела этого князя [189].
Однако обращение к Житию Александра Куштского, умершего 9
июня 1439 г .
[190],
не подтверждает выводов А.В.Экземплярского. Прежде всего нужно отметить, что
это Житие было составлено не ранее 1575 г . [191]
Столь позднее происхождение агиографического сочинения уже внушает подозрения
относительно точности и достоверности передаваемых в нем сведений о жизни
Александра Куштского и фактах его времени. Такие подозрения остаются и при
ознакомлении с известием Жития о ярославских князьях в Заозерье. Известие это
помещено в статье "О князи Димитрии, иже на Оустии" и говорит о том,
что "в то же время владЪша в Заозерие отчиною округъ езера великаго,
глаголемаго Кубеньскаго, князь Димитреи и князь Семенъ, ярославские князи"
[191a].
Можно убедиться, что в источнике сказано лишь о Заозерье. О Пошехонье же речи
нет вообще. Что касается князя Семена, упомянутого в Житии Александра Куштского
и принимаемого А.В.Экземплярским за князя Семена Новленского, то имя его
является позднейшей вставкой. Как подметил уже В.О.Ключевский, при составлении
Жития Александра Куштского было использовано Житие Дионисия Глушицкого [192].
Оказывается, вся статья "О князи Димитрии, иже на Оустии" Жития
Александра Куштского заимствована из Жития Дионисия. И фраза о ярославских
князьях в Заозерье в своей основе выписана оттуда же [193].
Но там князь Семен не фигурирует. Становится ясным, что он появился в тексте
под пером работавшего при Иване Грозном составителя Жития Александра Куштского.
На каких же исторических данных основывался писатель XVI в., вводя в свое
изложение ярославского князя Семена? Несомненно, что у составителя были некоторые
документы Успенского Куштского монастыря, в частности жалованные грамоты [194],
и он знал какие-то предания об Александре. Помимо князя Семена, в Житии
упоминаются только князь Дмитрий и его жена Мария [195].
Известно, что самого младшего сына Дмитрия и Марии Заозерских звали Семеном и
что он оказался единственным продолжателем этого рода ярославских князей [196].
Семен должен был наследовать владения отца и, братьев и должен был по меньшей
мере подтверждать грамоты Куштскому монастырю на земли, отданные туда его
родичами. Имя Семена, очевидно, упоминалось в тех монастырских актах, которые
были в распоряжении составителя Жития Александра Куштского. Поэтому составитель
и вставил его имя в свое произведение. Тем самым отпадают всякие основания
видеть в князе Семене Жития Александра Кушсткого князя Семена Васильевича
Новленского и искать его отчину в Заозерье.
В свое время была высказана мысль, что князь Семен Васильевич получил свое прозвище по с.Новленскому, находившемуся на р.Паже, в 23 верстах от Ярославля и в двух верстах от с.Курбы - центра владений князей Курбских [197]. Но столь близкое соседство центров двух уделов представляется весьма сомнительным. К тому же в районе указанного с.Новленского не обнаруживается каких-либо владений ни князя Семена, ни его потомков.
А.П.Барсуков основным владением князя Семена Новленского считал Юхоть [198]. Мысль исследователя представляется верной. Известно, что внук князя Семена князь Иван Данилович носил прозвище Юхотского [199], очевидно по своим владениям в бассейне р.Юхоти — правого притока Волги. Во всяком случае, его сын князь Федор владел деревнями и починками, стоявшими на устье Юхоти и по правому берегу Волги [200]. Центром Юхотской волости на протяжении XVI—XIX вв. было с.Новое [201], стоявшее на Юхоти в ее среднем течении [202]. Поскольку названия Новое и Новленское синонимичны (ср.: Новленское — Новое в Пошехонье), центр владений князя Семена Васильевича Новленского, от которого он и получил свое прозвище, следует усматривать в с.Новом позднейшей Юхотской волости. Сказанное дает основание полагать, что в свое время всей территорией бассейна Юхоти распоряжался князь Семен Новленский.
Наконец, четвертый сын Василия Васильевича, Дмитрий, владел Заозерьем — землями близ Кубенского озера и в бассейне р.Кубены [203]. Село Устье, стоявшее на Кубене, несколько выше ее впадения в Кубенское озеро, было центром его отчины [204].
О владениях пятого сына Василия Васильевича, князя Ивана-Воина, никаких сведений нет. Возможно, он умер малолетним и не успел получить удела.
Суммируя сведения о географии владений потомков наследовавшего после отца "большое княженье на Ярославле" князя Василия Васильевича, можно прийти к выводу, что, помимо самого Ярославля, этому князю достались все земли Ярославского княжества, расположенные по правому берегу Волги до границ с Моложским княжеством на западе, Угличем и Ростовом на юге, великим княжеством Владимирским (Нерехтой и Костромой) на востоке; отдельные места на левом берегу Волги, к северо-востоку от Ярославля, а также заозерско-кубенская территория.
Пользуясь теми же приемами ретроспективного анализа, можно определить географию владений второго сына князя Василия Давыдовича Глеба.
Сохранились сведения о вотчинах потомков этого князя. Так,
один из сыновей князя Глеба, Константин Шах [205],
около 1392 г .
передал в ярославский Спасский монастырь "село свое" Головинское,
Григорьевский луг, починки Шостаков и Скоморохов [206].
Эти владения Спасский монастырь удерживал за собой и в XVII в. [207]
Деревни Головинское, Григорьевское и Скоморохово сохранились и в XIX в. Стояли
они в 10—12 верстах от Ярославля, на р.Шиголости или около нее [208].
Речь, следовательно, должна идти о владении Константина Шаха близ стольного
города княжества. Но основные земли князя Константина лежали в ином месте.
В правой грамоте, выданной 20 января 1501 г . властям ярославского
Толгского монастыря, упоминается Шаховская волость [209].
Она существовала и в XV в. [210]
В этой волости были угодья, принадлежавшие князю Юрию Константиновичу [211].
Юрий был сыном Константина Шаха [212],
и это делает понятным его отношение к Шаховской волости. Поскольку и другой сын
князя Константина, Андрей, имел прозвище Шаховского [213],
надо думать, что Шаховской волостью владел еще сам Константин. Шахов
локализуется по уже упоминавшейся д.Хиново [214],
близ верховьев р.Шиголости.
Дополняют географию владений князя Константина Шаха сведения о вкладе, сделанном в 60—70-е годы XV в. в Троице-Сергиев монастырь его упоминавшимся уже сыном Юрием. Последний дал троицким властям пожню Черевковскую "от устья от Рыбничнаго на низъ подлЪ Волгу до Тунбы" [215]. В составленных С.Б.Веселовским "Пояснительных примечаниях к актам", опубликованных в первом томе "Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси", относительно жалованной данной грамоты Юрия Константиновича на пожню Черевковскую говорится, что "пожня Черевковская вошла в состав владений, данных м-рю кн.шехонскими и кн.Ив. Андр. можайским" [216]. Вероятно поэтому, при публикации в заголовке грамоты указано, что Черевковская пожня находилась в Пошехонском уезде. Однако приведенное утверждение основано на недоразумении. Пожня Черевковская вовсе не упоминается в грамотах Шехонских князей и Ивана Можайского Троице-Сергиеву монастырю [217]. И искать ее надо не в Пошехонье.
В Списке населенных мест Ярославской губернии упоминается стоявшая на Волге д.Тюмба, а несколько ниже указана речка Рыбинка. Речь идет о районе, расположенном к северо-востоку от Ярославля [218]. Совпадение географических наименований грамоты Троице-Сергиеву монастырю с почти рядом стоящими названиями Списка населенных мест свидетельствует, что князь Юрий Константинович владел участком на левом берегу Волги, близ позднейшей деревни Тюмбы. А поскольку эти его земли находились сравнительно недалеко от д.Хиновы Шаховской волости, можно думать, что все они образовывали единый территориальный комплекс и Шаховская волость достигала Волги.
Есть сведения о вотчинах и другой ветви рода князя Глеба Васильевича. Его правнук князь Василий Щетинин, происходивший от сына Глеба Федора, владел волостью Кастью [219]. Очевидно, волость получила свое название во р.Касти, правому притоку р.Соти [220].
Из документа последней четверти XV в. можно извлечь некоторые данные о географии владений другого потомка князя Глеба Васильевича.
В одной правой грамоте, полученной в 1483/84 г. митрополичьим посольским Григорием Пятиным на Андреев наволок на р.Соти, упомянут крестьянин д.Городище Ивашка Порывка, который оказался "у князя Ивана у Жирого в холопех" [221]. Как "Иван Жирого" этот князь зафиксирован в "Указателе личных имен" первой части "Актов феодального землевладения и хозяйства", но издатель сборника Л.В.Черепнин не пояснил, к какому княжескому роду принадлежал князь Иван [222]. Очевидно, речь должна идти о князе Иване Ивановиче Младшем Жировом-Засекине, правнуке князя Глеба Васильевича [223]. Поскольку живший близ р.Соти крестьянин перешел ко князю Ивану в холопы, следует думать, что земли Жирового-Засекина лежали близ р.Соти, к северу от р.Касти. В XVI—XVII вв. князья Жировые-Засекины и их близкие родичи владели землями по рекам Роге и Сонгобе — левым притокам р.Ити, впадающей слева в Волгу, и левому берегу Ити [224]. Характерно, что на правом берегу Ити владений потомков князя Глеба не было.
Таким образом, по реконструированным владениям князей Константина Глебовича, его сына Юрия, Василия Щетинина и Жировых-Засекиных можно примерно воссоздать и географию удела их родоначальника князя Глеба Васильевича. Несомненно, что основную часть его удела составляли земли, лежавшие по левому берегу Волги, на северо-восток от Ярославля, в бассейнах Касти и Ити, причем Ить служила границей владений Глеба.
Даже если забыть о том, что третий сын Василия Давидовича, Роман, основал расположенный к северо-западу от Ярославля город Романов, то уже определение территорий, принадлежавших двум его старшим братьям, заставляет помещать удел князя Романа на левом берегу Волги, в северо-западном направлении от столицы княжества. Основание Романова — факт, лишь конкретизирующий историко-географический вывод о местоположении земель князя Романа Васильевича. Другими такими фактами, уточняющими пределы владений названного князя, служат прозвища его внуков князей Афанасия-Андрея Шехонского и Василия Ухорского. Происхождение прозвищ прозрачно. Они образованы от гидронимов Шексна и Ухра. Очевидно, Афанасий-Андрей имел владения по Шексне, а Василий — по левому притоку Шексны р.Ухре. Соседство владений позволяет заключить, что в свое время они принадлежали деду Афанасия-Андрея Шехонского и Василия Ухорского князю Роману Васильевичу.
Сделанный на основании прозвища князя Афанасия-Андрея вывод о владении им землями по Шексне в определенной степени подтверждается документами XV в. Духовная грамота великого князя Василия Темного, в частности, свидетельствует, что Усть-Шексна в свое время была собственностью князей Семена и Василия Шехонских [225]. Последние были сыновьями Афанасия-Андрея [226]. Более конкретно, хотя и частично, владения этих князей определяются на основании двух жалованных данных грамот 1432—1445гг. вдовы князя Афанасия-Андрея княгини Аграфены Троице-Сергиеву монастырю. В грамотах упоминаются земли, передаваемые троицким старцам: монастырь Никольский, Голузина пустошь, Нихта, слободка в Сосняге, Березово, Рогатские, Дивново, Мелкошино, Еляково, Бармино и на другой стороне р.Шексны — Чевьское. Все названные поселения и угодья находились близ впадения Шексны в Волгу [227]. Большинство их сохранилось и в XIX в. Список населенных мест Ярославской губернии фиксирует в Рыбинском уезде по правому берегу Шексны с.Никольское, д.Галузино, села Сосняги и Березово, оз.Дивное, д.Барбино (вероятно, древнее Бармино) [228], а на другом берегу Шексны — д.Чевскую (Чегскую). получившую свое название по р.Чеге [229]. Западной границей этих земель служила р.Малая Пушма, правый приток Шексны [230].
Думается, сказанного вполне достаточно для вывода о том, что владения князя Романа Васильевича простирались от р.Ити до р.Малой Пушмы, захватывая достаточно широкую полосу земель, лежавших по левому берегу Волги. (См. рис. 11).
Рис.11. Ярославское княжество в конце XIV в.
Проанализированный материал позволяет сделать некоторые заключения относительно территорий первых ярославских уделов. Несомненно, что самым крупным из них был удел собственно ярославского князя. Василий Васильевич владел всеми относившимися к Ярославлю землями по правой стороне Волги, которые, судя по целому ряду признаков, были освоены раньше и заселены гуще, чем земли ярославского левобережья, а также обширнейшей заозерско-кубенской территорией. Эта территория была отрезана от основных владений князя Василия и вообще от остальных земель княжества. В какое время и каким образом сформировались владения ярославских князей по Кубене и близ Кубенского озера, пока остается неясным. Можно лишь с некоторой долей вероятности утверждать, что в первой половине XIV в. такие владения уже существовали [231].
Хотя в руках Василия Васильевича Ярославского оказались земли, лежавшие в разных районах княжества, они по своим размерам превышали уделы его двух братьев. Становится очевидным, что помета о Василии в родословных росписях "был на большем княженье на Ярославле" точно отражала суть дела. Старейшинство в ярославских князьях оказывается связанным с обладанием большим уделом. Тут ясно прослеживаются те же тенденции сохранения политического единства под рукой старшего князя, что и в других княжествах Северо-Восточной Руси XIV в.: Тверском, Московском, Нижегородском, Стародубском. И совсем неслучайно старший сын Василия Васильевича Иван, по смерти отца занявший его стол, в конце XIV в. титулуется великим князем ярославским.
Во избежание возможных конфликтов уделы трех сыновей Василия Давыдовича четко отграничивались друг от друга. Во всяком случае не удается проследить владений, например, Василия в уделе Глеба или Глеба в уделе Романа. Единственным районом, где владения братьев, по-видимому, смешивались, были земли вокруг Ярославля. Говорить "по-видимому" приходится потому, что прямые данные о княжеских вотчинах в ярославской округе относятся не к самим Васильевичам, а к их потомкам, которые могли приобретать земли в уделах родственников и тем самым нарушать древнюю географию удельных владений. Выше было показано, что вотчины близ Ярославля имели сын Василия Васильевича Семен Новленский, внук Роман Иванович, правнуки Федор и Семен Романовичи, Даниил Васильевич; сын Глеба Васильевича Константин Шах. В этом отношении история развития ярославской округи сходна с судьбами округ Москвы, Твери, отчасти Суздаля. Наличие владений князей разных родственных линий вблизи от стольного города княжества было одной из основ заинтересованности этих князей в политическом единстве и средством их подчинения старшему представителю княжеского дома. Во многом благодаря такому единству ярославские князья сумели сохранить в XIV в. неприкосновенность своих территорий от попыток захвата их другими князьями.
* * *
Примерно в 60-70-е годы XIV в. от Ярославля отделилась
Молога. Моложский князь Федор Михайлович назван в числе князей, участвовавших в
1375 г .
в походе на Тверь [232].
При этом князе, умершем в 1408
г . [233],
вероятно, возникли и первые моложские уделы, но интенсивное дробление княжества
наступает только после смерти Федора Михайловича. В правление же князя Федора
уделы могли иметь только два его брата: Лев (или его сын Андрей) и Иван. Где
находились владения Льва или Андрея, сказать трудно. Возможно, они лежали к
северо-востоку от Мологи.
Удел князя Ивана определяется по местоположению вотчин его потомков. Средний сын Ивана Глеб носил прозвище Шуморовского [234]. На юго-запад от Мологи известны с.Шуморово и р.Шумора [235]. Судя по прозвищу, здесь и находились владения князя Глеба Ивановича. Племянник Глеба и внук Ивана князь Иван Федорович Ушатый в начале XVI в. владел отчинными землями по Волге, близ устья Юхоти [236]. Приведенные данные заставляют думать, что удел князя Ивана Михайловича располагался по левому берегу Волги, вверх от устья Мологи и по меньшей мере достигал района против впадения в Волгу Юхоти.
Пределы владений самого моложского князя Федора Михайловича
также частично определяются по владениям его потомков. Второй сын Федора князь
Семен имел прозвище Сицкого [237].
Оно произошло от названия р.Сить, по которой, очевидно, и лежали владения этого
князя. Еще дальше от г.Мологи, на северо-запад от нее, находилась вотчина
четвертого сына Федора Михайловича князя Ивана Прозоровского [238].
Свое прозвище он получил от стоявшего на р.Редме с.Прозорова [239].
Это село упоминается в конце 50- начале 60-х годов XVI в. Тогда оно было
владением князей Михаила Федоровича и Александра Ивановича Прозоровских [240],
двоюродных братьев, представителей младшей ветви князей Прозоровских [241].
Сохраненное в роду сына Ивана Прозоровского князя Андрея с.Прозорово, очевидно
перешедшее к нему после смерти отца, было, скорее всего, центром владений
самого Ивана [242].
Возможно, отчина последнего захватывала и территорию впервые упоминаемого в
духовной грамоте Ивана III 1504
г . Холопьего городка на р.Мологе [243]
и даже простиралась выше по течению этой реки, как было много позже, во времена
праправнуков князя Ивана князей Михаила Федоровича и Александра Ивановича
Прозоровских [244].
В литературе высказано мнение, что пределы Моложского
княжества достигали р.Суды, правого притока р.Шексны [245].
Мнение это основывается на прозвище старшего внука Ивана Федоровича
Прозоровского князя Федора Юрьевича Судского. Считалось, что его прозвище
происходит от волости Суда [246],
которая в свою очередь получила название от р.Суды. Сохранилась, однако,
духовная грамота 1545/46 г. одного из сыновей Федора Судского, князя Ивана
Федоровича, также прозванного Судским. В духовной упоминается целый ряд
церквей, стоявших на р.Судке, в которые Иван Федорович давал вклады [247],
а также с.Судка "на рекЪ на Себле на усть реки Судки" [248].
Речь идет о р.Судке, впадающей слева в р.Себлю - правый приток Мологи. Близ
Судки, помимо одноименного села, находились и другие владения князя Ивана [249].
Все они были расположены по соседству с селом Прозоровым - центром всего
Прозоровского удела. Становится очевидным, что старший внук первого Прозоровского
князя князь Федор Юрьевич и сын Федора князь Иван получили свои прозвища не от
р.Суды, как считалось ранее, а от р.Судки. Следовательно, границы Моложского
княжества на северо-западе не захватывали течения р.Суды Шекснинской. Тем не
менее они простирались достаточно далеко. Под 1340 г . Новгородская I
летопись младшего извода сообщает, что новгородский "молодци воеваша
Устижну и пожгоша,... потом же и БЪлозерьскую волость воеваша" [250].
Из приведенного текста следует, что стоявшая на Мологе Устюжна не относилась ни
к Новгороду, ни к Белоозеру. Поскольку третьим и последним соседом устюжских
земель было Моложское (Ярославское) княжество, надо считать, что Устюжна
входила в состав Ярославского, а позднее Моложского, княжества. Но под 1393 г . та же летопись
сообщает, что новгородцы взяли Устюжну "у князя великаго" [251].
Следовательно, к концу XIV в. Устюжна стала великокняжеской. Ее переход под
власть московских князей произошел, вероятно, в 80-е годы XIV в., когда в руки
Дмитрия Донского попала соседняя с Устюжной территория Белозерского княжества.
* * *
Изучение территории Белозерского княжества в XIV в.,
повидимому, с 1302 г .
вернувшегося под власть потомков Глеба Белозерского, в значительной степени
облегчается благодаря исследованию А.И.Копаневым истории землевладения
Белозерского края в XV-XVI вв. и составленным им картам Белозерья XV-XVII вв.
Правда, и в истории, и в географии Белозерского княжества XIV в. остается еще
немало неясностей.
К ним относится прежде всего вопрос о "купле" Белоозера
Иваном Калитой, которую упомянул в своей духовной грамоте 1389 г . Дмитрий Иванович
Донской. Теперь, когда завеса над "куплями" князя Ивана Даниловича
несколько приподымается благодаря разобранным выше известиям о Галицком
княжестве XIV в., следует полагать, что Белоозеро действительно было
"приобретено" Калитой. "Купля" (т.е. получение ханского
ярлыка) могла состояться между 1328
г ., когда московский князь получил в Орде право на
управление Новгородом и Костромой [252],
и 1339 г .,
когда летописи упоминают суверенного князя Романа Белозерского [253].
Сведений о Белоозере, местных князьях и подвластной им территории за первую
половину XIV в. ничтожно мало, и тем не менее одно свидетельство показывает,
что к моменту "купли" белозерские князья, видимо, потеряли часть
своих владений.
Под 1327
г . в псковских летописях помещено известие о том, что
русские князья, посланные ханом Узбеком захватить скрывшегося от него
Александра Тверского, "подъяша... всю область Новогородцкую от БЪлаозера и
от Заволочия" [254].
Приведенные слова, отсутствующие в других сводах, следует возводить к псковским
летописным записям, фиксировавшим текущие события [255].
Таким образом, с точки зрения древности показание псковских памятников
летописания не должно вызывать подозрений. Что же касается смысла приведенного
сообщения, то он весьма интересен. Неизвестный пскович, живший в начале второй
четверти XIV в., включил Белоозеро, как и Заволочье, в состав новгородских
земель. Хотя в свидетельстве летописателя можно угадывать преувеличение, но
считать его совершенно беспочвенным нельзя. По-видимому, к 1327 г . новгородцы сумели
захватить какую-то часть территории Белозерского княжества, и это дало повод
современнику говорить о новгородской "области", простиравшейся
"от БЪлаозера". Потери земель белозерскими князьями наносила урон их
экономическому положению и политическому престижу. Такая ситуация, а также
прецедент XIII в. - переход Белоозера к ростовским князьям, облегчали Ивану
Калите "куплю" Белоозера.
Указанные выше хронологические рамки приобретения
московским князем ярлыка на Белозерское княжество в то же время свидетельствуют
о том, что распространение власти Ивана Даниловича на белозерскую территорию
носило временный характер. По-видимому, в 1337 или 1338 гг., когда хан Узбек
простил возглавившего в 1327
г . восстание против ордынского засилья тверского князя
Александра Михайловича и передал ему Тверское княжество, что явно шло вразрез с
политическими планами Ивана Калиты, монголо-татары и Белозерское княжество
вернули старому вотчичу - князю Роману Михайловичу. Во всяком случае, судя по
прозвищу этого князя и его самостоятельным сношениям с Ордой, к 1339 г . Белоозером правил
уже он.
Белозерское княжество оставалось независимым или почти
независимым до конца 70-х годов XIV в. Князь Федор Романович Белозерский
упоминается в числе других владетельных русских князей - участников похода на
Тверь в 1375 г .
[256]
Через 5 лет Федор Белозерский вместе с сыном Иваном вновь "сел в
стремя" по призыву Дмитрия Московского. В битве на Куликовом поле оба
белозерские князя погибли [257].
Возможно, что власть в их княжестве на короткое время перешла ко второму сыну
Романа Михайловича Василию или же к старшему сыну последнего Юрию [258].
Однако пресечение старшей линии белозерских князей, родственные связи Федора
Романовича с московским великокняжеским домом (как доказал А.И.Копанев, женой
князя Федора была дочь Ивана Калиты Феодосия) [259]
способствовали переходу Белоозера в руки великого князя Дмитрия Ивановича
Московского. Согласно тексту его духовной грамоты 1389 г . Белоозеро
передавалось его третьему сыну Андрею "со всЪми волостми, и Вольским съ
Шаготью, и Милолюбъскии Ъзъ, и съ слободками, что были дЪтии моих" [260].
Кроме того, в руки жены Дмитрия Донского должны были перейти белозерские
волости, которые оставались в пожизненном владении вдовы Федора Романовича
княгини Феодосии: Суда, Колашна, Слободка, Городок и Волочек [261].
География всех перечисленных в духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Московского
белозерских районов определяется довольно точно. Уже В.Н.Дебольский, глухо
сославшись на одну грамоту, указал, что волости Вольское и Шаготь "лежали
в области р.Шексны", причем Вольское было расположено в северной части бывшего
Рыбинского уезда [262].
В самом деле, даже по Списку населенных мест Ярославской губернии можно
установить, что на севере Рыбинского уезда стояли два погоста Вольские,
названия которых совпадали с наименованием древней волости. Сама же волость
Вольское получила свое название по р.Воле, левому притоку Шексны [263].
Что касается Шаготи, то эта волость лежала не на Шексне, как думал
В.Н.Дебольский и вслед за ним А.И.Копанев [264],
а, как показал Ю.В.Готье, на р.Ухре [265].
Список населенных мест Ярославской губернии фиксирует села Малую и Большую
Шаготь в левобережье р.Ухры, в ее среднем течении [266].
Благодаря локализации Вольского и Шаготи точнее определяется северная граница
Ярославского княжества. Она пересекала р.Ухру, видимо, в ее верхнем течении,
где были владения ярославских князей Ухорских, и далее шла к Шексне южнее Воли.
Местоположение остальных белозерских волостей определено в
работах Н.Никольского, М.К.Любавского и А.И.Копанева. Милолюбский Ъз находился
на территории позднейшей волости Милобудье, видимо на Шексне, выше устья р.
Словенки [267].
Суда - по реке того же названия, правому притоку Шексны [268];
Колашна - по р.Коломше, левому притоку Суды, в ее верхнем течении [269];
Слободка - скорее всего Рукина Слободка, которая позднее входила в состав
Волочка Словенского [270];
Городок - позднейший Федосьин Городок - занимал территорию по верхнему течению
Шексны [271];
Волочек - известный Волочек Словенский, названный так по волоку между
Словенским и Порозбицким озерами [272].
Таким образом, перечисленные в духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Донского белозерские
волости лежали по р.Шексне, в ее верхнем и нижнем течении, а также по рекам
Ухре и Суде, крупным притокам Шексны. Из факта заточения на оз.Лаче московскими
властями некоего попа, служившего у сына московского тысяцкого И.В.Вельяминова [273],
можно заключить, что север Белозерского княжества также контролировался
Дмитрием Ивановичем.
Тем не менее московский великий князь распоряжался не всеми
землями Белозерского княжества [274].
Правда, в его духовной грамоте 1389
г . указано, что Белоозеро отходит князю Андрею
Дмитриевичу "со всЪми волостми". Последняя фраза давала повод
считать, что вся территория Белозерского княжества стала управляться Москвой.
Так, в частности, представляли дело уже младшие современники Дмитрия Донского.
В повести "О житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя
Русьского" утверждалось, что третий сын Дмитрия Андрей получил
"городъ БЪлоозеро со всЪми волостьми и съ пошлинами, се же было нЪколи
княжение БЪлозерское" [275].
Подчеркивалось, что Белозерское княжество при Дмитрии Донском полностью перешло
под его власть. Такая мысль разделялась не только средневековыми историками, но
и исследователями позднейшего времени [276].
Между тем повесть "О житии и преставлении..." носит очевидный панегирический
характер, и исторические заслуги Дмитрия Донского представлены в ней в явно
преувеличенном и приукрашенном виде [277].
К тому же ссылки на завещание Дмитрия отражали злобу дня [278].
Подобная тенденциозность заставляет сомневаться в справедливости оценки акции
Дмитрия в отношении Белозерского княжества. По всей видимости, более верная ее
характеристика содержится в летописных сводах 1493 и 1495 гг. В них
указывается, что князю Андрею были даны Дмитрием "на БЪлЪозерЪ два города
съ всЪми пошлинами, а неколи бысть БЪлозерское княжение великие" [279].
Приведенная запись точнее сообщения о Белоозере повести "О житии и
преставлении...". Ее составитель, в частности, знал, что в конце XIV в.
существовали два Белозерских городка, а не один [280].
И тем любопытнее становится его замечание о том, что Андрею досталось бывшее
"БЪлозерское княжение велик[ое]". Белозерский князь не носил титула
"великий", поэтому Белозерское княжество никогда "великим"
не называлось. Почему же так определено оно в записях, сохранившихся в
летописных сводах конца XV в.? Ответ может быть только один. Термин
"княжение великое" по отношению к Белоозеру здесь означает не все
княжество в целом, а лишь владения старшего, "великого" по отношению
к местным удельным князьям, собственно белозерского князя. Таким образом, на
ином материале подтверждается высказанная ранее мысль о том, что Дмитрий
Донской распоряжался не всей территорией Белоозера. Вместе с тем летописное
свидетельство 1389 г .
сводов 1493 и 1495 гг. дает основание считать, что в руки московского князя
перешла наиболее важная часть территории Белозерского княжества - именно земли
старшего белозерского князя.
Сделанное заключение можно подкрепить еще двумя
аргументами. Известны грамоты XV в. представителей младшей ветви белозерских
князей, в которых потомки князя Романа Михайловича выступают как удельные
князья с правом суда и сбора дани в своих землях [281],
т.е. с теми феодальными прерогативами, которые московский великокняжеский дом
стремился сосредоточить исключительно в своих руках [282].
Если считать, что к 1389 г .
власть Дмитрия Донского распространилась на всю территорию Белозерского
княжества, а не на ее "великокняжескую" часть, то объяснить, как и
почему в XV в. сохранились уделы белозерских князей, становится невозможным.
С другой стороны, картографируя владения удельных
белозерских князей конца XIV-XVI вв., можно убедиться в том, что основная масса
их владений лежала по соседству с той территорией, которой распоряжался московский
князь и которая примерно очерчивается на основании данных завещания 1389 г . Дмитрия Донского.
Несовпадение указанных территорий еще раз свидетельствует о том, что в руки
Дмитрия Ивановича перешел удел только старшего белозерского князя, т.е. павшего
на Куликовом поле Федора Романовича.
Сделанный вывод позволяет проникнуть в глубь истории
Белозерского княжества и частично охарактеризовать феодальное членение его
территории в период политической самостоятельности Белоозера, т.е. примерно в
40-70-е годы XIV в. Картографирование даже только тех белозерских волостей,
которые перечислены в духовной грамоте 1389 г . Дмитрия Донского, помогает уловить
принципы такого членения. Становится очевидным, что старшему из белозерских
князей, занимавшему собственно белозерский стол Федору Романовичу принадлежали
земли по течению Шексны, важный по своим путям район Словенского и Порозбицкого
озер. В его руках был также выход к Заволочью через озера Воже и Лаче, земли по
рекам Суде и Ухре. Река Шексна издавна связывала Белоозеро с Волго-Окским
междуречьем, она была удобной колонизационной и торговой дорогой. Вполне
естественно, что земли по Шексне притягивали к себе население. И вряд ли стоит
удивляться тому, что эти наиболее населенные и издавна освоенные земли
Белозерского княжества оказались объектом владений старшего белозерского князя.
Реки Суда и Ухра были одними из крупнейших, если не самыми крупными, притоками
Шексны. Как правило, заселение территории шло по большим рекам. Поэтому можно
думать, что земли по Суде и Ухре были заселены рано и по средневековым меркам
достаточно плотно. Естественно поэтому, что они тоже отошли к собственно
белозерскому князю. Федор Романович держал в своих руках и волоковый путь из
оз.Словенского в оз.Порозбицкое, являвшийся частью магистрали, которая
связывала Волго-Окское междуречье с Подвиньем [283].
Туда же можно было проникнуть и с оз.Лаче. Иными словами, под властью старшего
белозерского князя сосредоточивалась самая населенная и самая удобная в
транспортном отношении территория княжества. Очевидно, что феодальное членение
Белоозера в XIV в., в период его самостоятельности, подчинялось тем же
закономерностям, какие наблюдаются и в других княжествах Северо-Восточной Руси
того времени: старший в роде князь получал самый крупный и населенный удел. И
это в конечном итоге способствовало сохранению политического единства
княжества, несмотря на владельческий раздел его территории [284].
Такой раздел имел место между Федором Романовичем и его единственным братом Василием. Князь Василий Романович известен по родословным росписям [285]. Косвенно о его существовании свидетельствует один акт конца XIV - начала XV в. [286] Родословцы наделяют Василия прозвищем Сегорский [287] или Сугорский [288]. Исходя из этимологии слова сугорье (по В.И.Далю, это основание горы) и приняв, видимо, во внимание географию волостей московских) князей на Белоозере, П.Н.Петров решил, что Василий Романович владел гористой частью Белозерского княжества по левому берегу Шексны, или позднейшим Кирилловским уездом Новгородской губернии [289]. К мнению П.Н.Петрова присоединился А.И.Копанев [290]. Но уже вариативность прозвищ князя Василия Романовича подрывает соображения П.Н.Петрова о местоположении земель этого князя. Географию удела князя Василия лучше определять по владениям его сыновей. Местонахождение этих владений устанавливается отчасти по прозвищам детей Василия Сегорского, а в основном - по актам XVI в.
Старший сын Василия Юрий в древнейших родословцах назван Белосельским [291]. Следующий по возрасту Афанасий - Шелешпанским [292]. Третий сын Василия Романовича, Семен, носил прозвище Кемский и Сугорский [293]. Наконец, четвертый из братьев, Иван, назывался в родословных книгах Карголомским и Ухтомским [294].
Прозвище князя Юрия Васильевича Белосельского свидетельствует о том, что центром его владений было какое-то Белое село. А.И.Копанев указал, что с.Белое было расположено "на южном течении р.Шексны" [295]. Однако никаких доказательств верности своего утверждения исследователь не привел. Не знают с.Белого на р.Шексне и Списки населенных мест Российской империи. Прав был Ю.В.Готье, который писал, что Белосельский удел Белозерского княжества - это позднейшие Белосельские волость и стан, расположенные в Пошехонском уезде между реками Согой и Ухрой [296]. Село Белое было административным центром и в XVIII в. [297] Оно зафиксировано Списком населенных мест Ярославской губернии [298].
Один из внуков Юрия Белосельского носил прозвище Андогский, или Андожский [299]. Вотчины князей Андожских были расположены на запад от Белого озера по р.Андоге, левому притоку Суды [300]. Вполне вероятно, что землями по этой реке распоряжался еще сам князь Юрий.
Любопытные сведения о владениях первого андожского князя, Михаила Андреевича, сохранились в одном документе конца 20- начала 30-х годов XV в. Оказывается, Михаил Андожский имел пустоши на р.Угле [301]. Угла является левым притоком Шексны [302]. Вся территория по этой реке принадлежала князьям московского дома [303]. Наличие здесь угодий удельного белозерского князя объясняется, скорее всего, тем, что они были его старинными родовыми владениями, существовавшими еще в период самостоятельности Белозерского княжества. Если так, то естественно, что в свое время они должны были быть в руках Юрия Белосельского.
Во многих исторических трудах прозвище второго сына Василия Сегорского-Сугорского, Афанасия, Шелешпанский, или Шелешпальский, уверенно объясняется тем, что этот князь владел с.Шелешпанью [304]. Называется даже район, где находилось это село [305]. Однако точного местоположения удельного центра князя Афанасия никто до сих пор не определил. И это немудрено, поскольку все написанное о Шелешпани не имеет документальных подтверждений. Если же обратиться к актовому материалу XVI в., то выясняется, что владения князей Шелешпанских находились в Пошехонье. Одна вотчина была расположена по среднему течению Ухтомы, на ее правом берегу, против устья р.Киемы. Здесь стояло, по-видимому, основное владение Шелешпанских - с.Никольское-Кукобой [306]. Ниже по Ухтоме, на ее левобережье, акты XVI в. фиксируют еще один массив земель Шелешпанских, прилегавший к р.Шелекше [307].
Довольно легко определяются владения (по крайней мере их часть) князя Семена Васильевича Кемского и Сугорского. Первое прозвище этого князя ясно указывает на земли в бассейне р.Кеми, к северу от Белого озера [308]. Акты XVI в. подтверждают такое заключение [309]. Другая часть владений князя Семена восстанавливается по владениям его потомков.
Сохранилось описание владения правнука Семена князя Ахмотека Согорского [310] в "Согорзе" Пошехонского уезда. Оно состояло из с.Тутанова с 34 приписными деревнями и 1 пустошью [311]. Вотчина локализуется по с.Тутанову, деревням Дуброва, Демидково, Клементьево, Матиево, Серково, Шилове, Денисове, Семенцово, Завражье, Игнатцово, Погорелово, Братино, Митрошево. Она была расположена между левыми притоками Ухтомы реками Копшей и Шелекшей, к югу от земель князей Шелешпанских по левому берегу Ухтомы [312]. Владения других князей Согорских были расположены близ р.Патры, левого притока Согожи [313], и по правому берегу Ухтомы в районе рек Содимы и Здеришки [314]. А по р.Кодобою, правому притоку Шелекши, лежали земли ближайших родственников Согорских - князей Кемских [315].
Самый младший из потомков Василия Романовича, князь Иван, получил одно из своих прозвищ - Карголомский - по с.Карголома, стоявшему на восточной окраине г.Белоозера и позднее слившемуся с ним [316]. Второе прозвище этого князя - Ухтомский - исследователи связывали с расположенным на восточном берегу Белого озера в устье Ухтомы, или Ухтомки, с.Ухтома [317]. Хотя Карголома и Ухтома на Белом озере находились по соседству, данных о владении Карголомскими или Ухтомскими князьями с.Ухтома нет [318]. Зато сохранилась купчая 1556/57 г., в которой упомянута вотчина князя Д.Д.Ухтомского в Романовском уезде "в Пошехонье на Ухтоме". Вотчина состояла из с.Карповского и ряда деревень и починков. Село, а также деревни Ефимовская, Трегубово, Норфринское, Ивандино, Сенино, Белое, Васьяново отыскиваются по Списку населенных мест Ярославской губернии [319]. Кроме того, в этом же районе князьям Ухтомским принадлежали села Никитино и Семеновское [320]. Все указанные поселения были расположены близ верховьев Патры [321]. А далее к северу, к р.Ухтоме и по самой Ухтоме, лежали владения других князей Ухтомских [322]. Ясно, что речь в данном случае идет о территории, которая получила свое название от левого притока р.Согожи р.Ухтомы. Понятно и происхождение второго прозвища князя Ивана Васильевича - по владениям на р.Ухтоме Согожской.
Таким образом, очерчиваются два района, где имели земли сыновья Василия Сегорского: район к северу и западу от Белого озера по рекам Кеме и Андоге и территориально не связанный с ним район к северу от упоминавшейся уже волости Шаготь по рекам Cоге, Патре и главным образом Ухтоме с ее притоками. Установление этого факта дает ключ к объяснению прозвища Василия Сегорского-Сугорского, или Согорского, как звались его потомки. Согорьем назывался, очевидно, район между реками Согой и Ухтомой. Там были основные владения князя Василия.
Реконструировав удел князя Василия Сегорского по данным о владениях его сыновей и их потомков, можно точнее очертить границы Белозерского княжества периода его самостоятельности и дать более четкую характеристику феодального дробления его территории. Подвластные белозерским князьям земли тянулись широкой полосой по р.Шексне, главным образом по ее левобережью, и включали бассейны таких ее левых притоков, как Согожа и, отчасти, Ухра. Романовичам принадлежали также земли вокруг озера Белого. (См. рис.12).
Рис.12. Белозерское княжество в XIV в.
Характер феодального членения территории Белозерского княжества до конца 70-х годов XIV в., по сути дела, был типичен и для других княжеств Северо-Восточной Руси XIV в. Заметно, что старший князь обладал большим уделом. Младший имел земли не только на периферии княжества, но и близ стольного города. Очевидно, что и вокруг Белоозера в XIV в. сформировалась территория, которой местный княжеский род владел сообща. Тем самым поддерживалось политическое единство дома белозерских князей во главе со старшим князем.
Выявленные черты начального феодального дробления Белоозера заставляют отвергнуть высказанную в литературе мысль, что распад княжества был вызван политическим нажимом московских князей [323]. При существовании такого нажима естественно было бы ожидать развития многовластия на Белоозере. Между тем до гибели Федора Романовича вместе с наследником на Куликовом поле Белозерское княжество политически было единым. И с этим фактом московским князьям приходилось считаться. Не случайно поэтому, что за князя Федора была выдана дочь Ивана Калиты Феодосия. Но после перехода в руки Дмитрия Донского старшего белозерского удела процесс территориального дробления отчины Василия Сегорского развивается быстро и необратимо, а самостоятельное политическое значение белозерского княжеского дома уходит в невозвратное прошлое.
|
|
|
1.
Карамзин Н.М. История государства Российского / Изд. И. Эйнерлинга.
СПб., 1842, кн.2, т.5, примеч.254. В выписке Н. М. Карамзина приводится точная
дата события: суббота 28 ноября 6902
г ., что соответствует 28 ноября 1394 г . по современному
летосчислению. М.Д. Приселков полагал, что выписка Н.М.Карамзина сделана из
Троицкой летописи (ср.: Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста.
М.; Л., 1950, с.445, примеч.3). Однако бесспорных данных, подтверждающих мнение
М.Д. Приселкова, нет. В Симеоновской летописи, очень близкой Троицкой, такое
известие отсутствует (ПСРЛ. СПб., 1913, т.18, с.143). Те же центры Ростовской
епархии указаны в летописном сообщении 1396 г . о поставлении на ростовскую кафедру
архиепископа Григория: он был назначен владыкой «граду Ростову, и Ярославлю, и
БЪлуозЪру, и Оуглечю Полю, и Оустьюгу, и МолозЪ» (ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1925, т.4,
ч.1, вып.2, с.381; ПСРЛ. СПб., 1851, т.5, с.249). Известие о поставлении
Григория восходит, по-видимому, к ростовской владычной летописи (Шахматов А.А.
Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.; Л., 1938, с.159).
2. ПСРЛ, т.5, с.206; Пг., 1915, т.4, ч.1, вып.1, с.257; Лурье Я.С. Общерусский свод - протограф Софийской I и Новгородской IV летописей. - ТОДРЛ. Л., 1974, т.28, с.127 и примеч.49.
3. Шахматов А.А. Указ. соч., с.159.
4. ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1926-1928, т.1, стб.529; Насонов А.Н. Летописный свод XV века (по двум спискам). - В кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, вып.2, с.299.
5. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период. СПб., 1891, т.2, с.34.
6. ПСРЛ, т.5, с.216; т.4, ч.1, вып.1, с.257; т.1, стб.530, везде под 6828г.
7. О нем см.: гл.3, примеч.17.
8.
В ростовском летописании XV в. смерть Константина
Ростовского отнесена к 6815 г .,
причем указано, что он скончался в Орде (ПСРЛ, т.5, с.204; т.4, ч.1, вып.1,
с.253; т.1, стб.529; Насонов А. Н. Летописный свод..., с.299, указания на место
смерти нет). Исследователи без оговорок принимали дату 1307 г . за год смерти
Константина (Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.33 и примеч.125).
Однако в великокняжеском летописании XIV в. о смерти Константина Борисовича
говорилось под 6813 г .
(ПСРЛ, т.18, с.86; ПСРЛ. М., 1965, т.30, с.101). Этот год ультрамартовский
(См.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963, с.351).
Следовательно, согласно летописной традиции XIV в., смерть Константина
Борисовича должна быть отнесена к 1304/05 г. Дата эта представляется более
приемлемой, чем 1307 г .
Именно в 1304 г .
после смерти великого князя Андрея Александровича русские князья отправились за
ярлыками в Орду. Видимо, тогда поехал к хану и Константин Ростовский, так и не
вернувшийся из этой поездки на Русь.
9.
ПСРЛ, т.4, ч.1, вып.1, с.256 (в т.5 известие о насилиях
монголо-татар и великого князя в Ростове опущено - с. 206); т.1, стб.529;
Насонов А.Н. Летописный свод..., с.299, везде под 6823 г .
10.
Так следует из родословных преданий (ПСРЛ. Пг., 1921, т.24,
с.228; Родословные книги - Временник МОИДР. М , 1851, кн.10, отд.2,
с.38,140,228). А.В.Экземплярский полагал, что после Василия Константиновича
ростовский стол занял его племянник Юрий Александрович. Исследователь
основывался на порядке родового старшинства, на прозвище князя Юрия -
«Ростовский», данном ему летописями, и допущении, что Василий умер в 1316 г . (Экземплярский А.В.
Указ. соч., т.2, с.36-37). Но все эти основания, как подметил еще
А.Е.Пресняков, слишком шатки, чтобы видеть в Юрии Александровиче собственно
ростовского князя (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг.,
1918, с.147, примеч.2).
11.
ПСРЛ, т.24, с.228; ГБЛ, ф.256, № 348, л .28об.,30об.-31; БАН,
Арх., Д.193, л.399. Половины Ростова названы так, очевидно, по церквам,
стоявшим в Ростовском кремле. Сам кремль разделялся надвое р.Пижермой. Церковь
Бориса и Глеба стояла в западной части крепости, а Стретенская, вероятно, в
восточной (Дозорные и переписные книги древнего города Ростова / Изд.
А.А.Титова. М., 1880, с.31 и план г.Ростова).
12. Родословные книги, с.38,140,228.
13. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.40; Пресняков А.Е. Указ. соч., с.148-149, с.148, примеч.1.
14.
ПСРЛ, т.24, с.228; ГБЛ, ф.256, № 348, л .28об., ЗОоб.-31.
15.
В одном из родословцев, список которого датируется 30-ми
годами XVI в. или, быть может, даже 1530 г ., приведено взятое из летописи известие
о женитьбе Константина Васильевича Ростовского на дочери Ивана Калиты и указана
дата - 1328 год: «А женился Константин у великого князя Ивана Даниловичя в лЪто
6836. И по сих Федор и Константин град Ростов подЪлиша надвое» (БАН, Арх.,
Д.193, л.399об.). По-видимому, при дальнейшем редактировании родословных
росписей дата была отнесена не к первой из процитированных фраз, а ко второй, и
получилось, что деление Ростова произошло в 1328 г .
16. ПСРЛ, т.1, стб.531; Насонов А.Н. Летописный свод..., с.300.
17. Пресняков А.Е. Указ. соч., с.149.
18.
ПСРЛ, т.24, с.194. Тот же текст и в Воскресенской летописи
(ПСРЛ. СПб., 1859, т.8, с.180). Обычно на Воскресенскую летопись и ссылались
исследователи, говоря о продаже Ростова в 1474 г . (См.: Экземплярский
А.В. Указ. соч., т.2, с.57, примеч.190) Но в Типографской летописи текст более
ранний.
19. ДДГ, № 61, с.195.
20.
Под 1433
г . в летописях упоминается наместник великого князя Василия
Васильевича в Ростове Петр Константинович (ПСРЛ, т.18, с. 173), а под 1439г.
сообщается, что сам великий князь продолжительное время жил в Ростове (ПСРЛ.
СПб., 1910, т.23, с.150). Приведенные факты ясно свидетельствуют о
принадлежности по крайней мере части Ростова великому князю Василию Васильевичу
еще в первые годы его княжения.
21. ПСРЛ, т. 24, с. 228; Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, табл.1.
22. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.42, примеч.148,150. М.К. Любавский установление власти московских князей над Стретенской половиной Ростова относил то ко времени Василия Дмитриевича, то ко времени Василия Васильевича (Любавский М.Н. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л., 1929, с.104,113).
23. Насонов А.Н. Летописные памятники хранилищ Москвы (новые материалы). - В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1955, вып.4, с.259. Текст из свода конца XVI в., дошедшего в списке XVII в. и хранящегося в ГИМ, собр. И.Е.Забелина, № 262(503), л.237. А.Н.Насонов считал это сообщение позднего летописного памятника вполне достоверным и использовал его для характеристики политической обстановки на Руси при Иване Калите (Насонов А.Н. История русского летописания XI- начала XVIII века. М., 1969, с.247 и примеч.4). В последнее время в правильности показаний этого сообщения усомнился, и напрасно, В.Л.Янин. Отвергая его, исследователь оставил без внимания говорящее о том же свидетельство епифаниевой редакции Жития Сергия Радонежского, а события 1360-1363 гг. в Ростовском княжестве интерпретировал как сугубо местные, хотя они имели гораздо более глубокую подоплеку и в сильной степени затрагивали интересы Москвы. В итоге ученый вернулся к традиционной трактовке вопроса о приобретении Москвой Стретенской половины Ростова, предложенной еще А.В.Экземплярским. Впрочем, для проблемы, разбираемой В.Л.Яниным, все это имеет второстепенное значение, поскольку судьба ростовских владений на Севере не зависела прямо от судьбы самого Ростовского княжества. - См.: Янин В.Л. Борьба Новгорода и Москвы за Двинские земли в 50-70-х годах XV в. - Ист. зап., 1982, вып.108 с.191-196, 200-203, 209-210.
24. Подробнее см.: Кучкин В.А. Земельные приобретения московских князей в Ростовском княжестве в XIV в. - В кн.: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978.
25. ПСРЛ. Пг, 1922, т.15, вып.1, стб.52-55, 59, 69-71, под 6847, 6848, 6850, 6852, 6856, 6857, 6868 и 6869 гг.
26. ДДГ, № 1,3,4,12.
27. Там же, № 1, с.10.
28.
В 1349 г .
волынский князь Любарт Гедиминович, задумав жениться на дочери Константина
Ростовского, испрашивал на то специального разрешения ее дяди великого князя
Симеона Гордого. - ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.59.
29.
Последнему обстоятельству способствовало также то, что в 1328 г . Константин женился
на дочери Ивана Калиты Марии. - ПСРЛ, т.1, стб.531; Насонов А.Н. Летописный
свод..., с.300. Об имени жены князя Константина см.; ПСРЛ, т.1, стб.533;
Насонов А.Н. Летописный свод..., с.302, везде под 6873 г .
30. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.69.
31.
Там же, стб.70, под 6869 г . (совместная поездка в Орду).
32.
Там же, стб.74, под 6871 г .
33.
ПСРЛ, т.5, с.229; т.4, ч.1, вып.1, с.290; т.1, стб.532;
Насонов А.Н. Летописный свод..., с.302, везде под 6871 г . В двух последних
источниках опущено указание на Переяславль, но сказано, что князья пришли в
Ростов с «силою великою».
34. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.50, ср.: с.41.
35.
Известно о службе московскому князю Федора Ржевского в 1314
и 1316 гг. (НПЛ, с.335,336). Заключать только на этом основании, что Иван
Ржевский в 1363 г .
служил Москве, было бы по меньшей мере неосторожно.
36.
Прямое известие о вражде Дмитрия Московского с Константином
Ростовским, правда отнесенное к 1364
г ., сохранилось в поздней Коми-Вымской летописи, но оно
дополнено здесь рядом сомнительных деталей (Вычегодско-Вымская
(Мисаило-Евтихиевская) летопись. - Историко-филологический сборник. Сыктывкар.
1958: АН СССР. Коми филиал, вып.4, с.257). О степени достоверности известия
см.: Флоря Б.Н. Коми-Вымская летопись. - В кн.: Новое о прошлом нашей страны.
М., 1967, с.225.
37.
ПСРЛ, т.5, с.230; т.4, ч.1, вып.1, с.291; т.1, стб.533;
Насонов А.Н. Летописный свод..., с.302 (в последнем источнике известие о
поездке Константина на Устюг записано под 6871 г .)
38.
ПСРЛ, т.18, с.110, под 6879 г .; т.15, вып.1,
стб.110, под 6883 г .;
т.1, стб.439, под 6917 г .
39. Там же, т.15, вып.1, стб.110,111.
40. Орешников А.В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896, с.167-168.
41. А.В.Орешников писал, что «Ростовское княжество в период чеканки монет (XIV-XV в.) представляло особенности, которых не встречалось в других княжествах Руси: в нем княжили одновременно два самостоятельных князя, управляя каждый своею стороною (т.е. Борисоглебскою и Стретенскою. - В.К.)». (Орешников А.В. Указ. соч., с.163). Этим исследователь и объяснял существование двуименных ростовских монет. Теперь, когда обнаружилось, что одна из «сторон» Ростова уже со времен Ивана Калиты принадлежала великим князьям из московского дома, такое объяснение не может быть приемлемо. Монеты чеканились, видимо, только одним из князей - тем, имя которого помещалось на обороте монеты. На лицевой стороне чеканили имя князя-сюзерена. Так можно думать на основании тех норм, по которым чеканились первые русские монеты XIV в. См.: Ильин А.А. Классификация русских удельных монет. Л. 1940, вып.1, с.33 (о двуименности первых русских монет).
42. ДДГ, № 12, с.34; ср.: № 1, с.10.
43. Там же, № 12, с.33. М.К. Любавский почему-то приписал это приобретение Ивану Калите (Любавский М.К. Указ. соч., с.113).
44. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960, кн.2, т.3/4, с.671, примеч.173.
45. Дебольский В.Н. Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник. СПб., 1901, ч.1, с.28. Исследователь почему-то не указал это село среди владений Ивана Калиты (Там же, с.21).
46. Любавский М.К. Указ. соч., с.113.
47.
Готъе Ю.В. Замосковный край в XVII веке. М., 1937, с.398. В
копии с писцовой книги 1646 г .
Ростовского уезда упоминаются селения Богородского стана на реках Устье, Ворге,
Неме, Ворсмице и Лиге. - ЦГАДА, ф.1209, кн.10753, л.1197, 1199, 1201об., 1203,
1210.
48. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6710 (дача 621).
49. Там же, ф.1209, кн.10753, л.1241.
50. Соловьев С.М. Указ. соч., кн.2, т.3/4, с.671, примеч.173.
51. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.28.
52. Село Василево зафиксировано в Списке населенных мест Ярославской губернии, который и послужил в данном случае источником В.Н.Дебольскому. См.: Ярославская губерния. Список населенных мест. СПб., 1865, с.268 № 7625.
53. ЦГАДА, ф.1209, кн.10753, л.1329об.
54. Среди них - Волкова, Есюнина, Добросилова. Головкова, Олексина, Змиева, Рычкова. - Там же. л.1330, 1331, 1332об., 1337, 1338об., 1350, 1353. Ср.: Ярославская губерния. Список населенных мест, № 9645, 9675, 9547, 9646, 9679, 9536, 9539.
55. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.328, № 9636. Недалеко от с.Василево стояло с.Васильевское (Горки), которое но названию также можно было бы отождествлять с с.Василевским XIV в, (Там же, с.320, № 9550). Но в XVII в. это село было деревней и называлось просто Горкой (ЦГАДА, ф.1209, кн.10753, л.1404об.-1405).
56. Ср.: Карта Ярославской области. М., 1966. (Далее ссылки на эту карту); ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.6744.
57. По данным XV в., рядом лежала переяславская волость Кистьма. - Готъе Ю.В. Указ. соч., с.394; АСВР, т.1, № 30, с.41.
58. АФЗ и X, ч.1, № 1, с.24.
59.
Приселков М.Д. Троицкая летопись..., с.441. В выписке,
сделанной Н.М.Карамзиным, как предполагал М.Д.Приселков, из сгоревшей в 1812 г . Троицкой летописи
приведена точная дата смерти Даниила: «февраля 13, въ четвертокъ на маслянои
недЪли», что соответствует 13 февраля 1392 г .
60.
Киприан приехал в Москву из Киева в 1390 г . «въ великое говЪние
на средокрестнои недЪли» (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.158). Средокрестная неделя в 1390 г . приходилась на 6-12
марта (Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944, с.61).
61. АФЗ и X, ч.1, № 1, с.28.
62. ДДГ, № 34.
63. Веселовский С.Б. Село и деревня в северо-восточной Руси XIV-XVI вв. М; Л., 1936, с.116.
64. Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии. М., 1885, с.259-286.
65. АФЗ и X, ч.1, № 12, с.33; № 5, с.25.
66. Титов А. А. Указ. соч., с.260, 271-273. Надо заметить, что Астрюково не упоминается в описании Карашской волости 1490-1491 гг. (АФЗ и X, ч.1, № 12). Очевидно, это поселение возникло позже.
67. Веселовский С.Б. Село и деревня..., с.116-118.
68. Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси М.; Л., 1947, т.1, с.378.
69. АФЗ и X, ч.1, № 1, с.23.
70. Титов А.А. Указ. соч., с.259.
71. Дебольский В.Н. Указ. соч., ч.1, с.22,24,25.
72.
НПЛ, с.97, под 6832 г .
73.
Там же, с.99, под 6837 г . Юрга - описка в источнике вместо Югра.
74. Корсаков Д.А. Меря и Ростовское княжество. Казань, 1872, с.166, примеч.34.
75. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.50.
76. АСВР, т.3, «№ 16, с.32-33. О датировке Списка см. текст примечания к акту № 16 на с.33 и комментарий на с.485-486.
77. Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. М., 1909, т.1, с.28.
78. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.47.
79. Зарубин Л.А. Важская земля в XIV-XV вв. - История СССР, 1970, № 1, с.183 и примеч.10. Район Емской горы принадлежал ростовским князьям еще в начале XIV в. В одном из документов, относящихся к 1315-1322 гг., упоминается граница новгородского Шенкурского погоста «до Ростовскихъ межъ до Ваимуги въверхъ до Яноозера, а от Яноозера прямо в ПЪзу» (ГВН и П, № 279, с.280). На одной из карт западнее р.Ваги и южнее р.Леди показаны р.Вайманга и два озера Ваимангские в ее верховьях, а западнее среднего течения Вайманги - оз.Ваймугское, название которого точно соответствует названию реки документа XIV в. Весь указанный район находится к северо-западу от Шенкурска. А к западу от Шенкурска на той же карте показано оз.Пезо, наименование которого повторяет наименование р.Пезы XIV в. Из этого озера вытекала река (на карте оставлена без подписи), впадавшая справа в р.Тарню - правый приток р.Леди. Возможно, это и есть р.Пеза (см.: ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.48). Таким образом, ростовские владения в начале XIV в. лежали по той же Леди, что и в XV в., и район Емской горы принадлежал ростовским князьям с довольно раннего времени.
80. Ср. выражение «староста кулоискои» при описании земель по р.Колую (АСВР, т.3, № 16, с.32).
81. Ср.: Богословский М.М. Указ. соч., т.1, прил., с.62.
82. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.319.
83. Богословский М.М. Указ.соч., т.1, с.5, примеч.1.
84. Зарубин Л.А. Указ. соч., с.186.
85. Богословский М.М. Указ. соч., т.1, с.10; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.319.
86. Зарубин Л.А. Указ. соч., с.184; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.319.
87. Р.Пукюма (на карте - Пукома) является правым притоком р.Кокшенги. - ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.319.
88. Зарубин Л.А. Указ. соч., с.185.
89. Богословский М.М. Указ. соч., т.1, прил., с.23 и карта.
90. Л. А. Зарубин считает, что в XIV-XV вв. под властью ростовских князей находились такие важские волости, как Заборская (территория по р. Уфтюге), Великая слобода, все Устьянские волости, Кирьи горы и Верхняя Тойма (Зарубин Л.А. Указ. соч., с.183-185, 187). Основанием для такого вывода послужила принадлежность этих территорий в XVII в. Ростовской епархии. Но подобное основание слишком шатко. Ведь к Ростовской епархии должны были относиться и появившиеся в XV в. на Baгe владения московских князей, к числу которых принадлежала, в частности, Великая Слобода.
91. ПСРЛ, т.24, с.228.
92. Там же.
93. Там же.
94.
ПСРЛ, т.1, стб.540; Насонов А.Н. Летописный свод..., с.307.
Точная дата смерти Константина сохранилась в одном летописном своде (ГБЛ,
ф.310, № 757, л .275,
но под 6922 г .,
возможно мартовским, - указано Б.М.Клоссом).
95. ПСРЛ, т.24, с.228.
96. Там же. Отец этого Федора Андреевича, князь Андрей, был старшим сыном Александра Константиновича.
97.
В своей работе о князьях Северо-Восточной Руси
А.В.Экземплярский указывал, что князь Константин Васильевич Ростовский умер в 1365 г . и был погребен в
ростовском Успенском соборе (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.50). При
этом исследователь сослался на начатое А.-Л.Шлецером издание Никоновской
летописи (Там же, примеч.173). Однако известия о месте погребения в Никоновской
летописи нет (Руская летопись по Никонову списку. СПб., 1788, ч.4, с.8; ПСРЛ.
СПб., 1885, т.10, с.4: оригинал Никоновской летописи - список Оболенского).
Отсутствует оно и в значительно более древнем тексте Рогожского летописца
(ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.79). И это косвенно подтверждает заключение о княжении
Константина на Устюге.
98. АСВР, т.3, с.278.
99. Там же, № 258-262. Подлинник - акт № 260.
100. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с.193-195.
101.
ГБЛ, ф.304, № 603, л .31 (список конца 40-х годов XVI в. с
текста написанного в 1495 г .);
ф.310, № 1214, л .353об.
(список 1541 г ).
102. Там же, л.31; там же, л.354.
103. Амвросий. История Российской иерархии. М., 1811, ч.3, с.701, 704 примеч.
104.
ГБЛ, ф.304, № 603, л .28, 35об.; ф.310, № 1214, л .350, 356об.
105. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.309,311,312.
106. В свое время Дионисий Глушицкий променял князю Юрию Ивановичу монастырскую пустошь Кузьминскую на нижней Глушице (АСВР, т.3, № 258). Река Глушица также является левым притоком Сухоны (ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.309).
107. В одной из грамот, данных князем Семеном Юрьевичем Глушицкому монастырю, упомянута р.Варжа, отданная во владение монахам Дионисиевой обители (АСВР, т.3, № 260 - подлинник). В «Указателе географических названий» к этому изданию р.Варжа отождествлена с притоком р.Юга, но такое отождествление неверно, поскольку Варжа, приток Юга, находилась в нескольких сотнях километров от монастыря. В описании 1615/16 г. владений Глушицкого Покровского монастыря в Бохтюжской волости показана «деревня Веретея на реке на Пахталке», крестьяне которой косили сено «по Варже реке вверх на пожне пять копен» (ЦГАДА, ф.1209, кн.56, л.370). Следовательно, р.Варжа протекала близ р.Пахталки, притока Бохтюги.
108. Верховья р.Бохтюги подходят совсем близко к р.Кубене, на которой были владения князей ярославского дома.
109.
ПСРЛ, т.24, с.228. Родословные дают Юрию Немому лишь одного
сына - Семена. Дионисиев Глушицкий монастырь получал грамоты только от Юрия и
Семена, из чего можно заключить, что Семен был единственным наследником отца.
Такой же вывод можно сделать и на основании анализа содержания первой грамоты
Семена, где только он выступает душеприказчиком своих отца и матери (АСВР, т.3,
№ 260). По Житию же Дионисия Глушицкого, князь Юрий Бохтюжский имел не менее
двух сыновей, и это как будто препятствует отождествлению князя Юрия Жития с
князем Юрием монастырских актов. Однако в одной из грамот князя Юрия Ивановича
содержится указание, что у него были еще сыновья (или сын), помимо Семена: «ни
мои дети не отъимают у них тое грамоты» (АСВР, т.3, № 259). Кажется
неслучайным, что в Житии Дионисия Юрий Бохтюжский упоминается до 1427 г . и сообщается о его
заповеди своим сыновьям. Вероятно, этот князь умер в моровое поветрие 1426-1427
гг. (о поветрии см.: ПСРЛ, т.18, с.168,169). Любопытно отметить, что в одной из
грамот великого князя Василия Васильевича Дионисиеву монастырю перечислено
несколько монастырских пустошей, которые «лежат.. пусты за дватпать лет, и
дворов на них нет ни кола». Грамота выдана 4 марта 1448 г . (АСВР, т.3, № 253).
Следовательно, монастырские земли запустели с 1428 г ., и скорее всего от
морового поветрия. Вместе с кпязем Юрием Ивановичем, вероятно, вымерла большая
часть его семьи. В живых остался один Семен, который и наследовал отцу, а
потому попал в позднейшие родословные росписи как единственный сын князя Юрия
Ивановича.
110. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.60.
111. Там же, т.1, стб.528; Насонов А.Н. Летописный свод..., с.298.
112. ПСРЛ, т.5, с.216; т.4, ч.1, вып.1, с.257; т.1, стб.530.
113. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.37.
114. Там же, с.36-37.
115. ДДГ, № 12, с.34.
116. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.96.
117. ДДГ, № 12, с.34. Углич был выделен четвертому сыну Дмитрия Донского, Петру.
118. Согласно родословному преданию, г.Романов был основан ярославским князем Романом Васильевичем: «той Романов городок поставил». - БАН, 17.15.19, л.256об.
119.
Романов (по-видимому, именно Романов на Волге) уже
упоминается в известном списке «А се имена всЪм градом Рускым, далним и
ближним» (НПЛ, с.477). Список составлен в 1394-1396 гг. и в качестве приложения
входил, вероятно, уже в свод 1409
г . митрополита Киприана (Наумов Е.П. К истории
летописного «Списка русских городов дальних и ближних». - В кн.: Летописи и
хроники. М., 1974, с.157,163). Следствием недосмотра является мнение, будто
Романов в названном Списке не упоминается (Сахаров А.М. Города Северо-Восточной
Руси XIV-XV веков. М., 1959, с.57).
120.
ПСРЛ, т.1, стб.530; Насонов А.Н. Летописный свод..., с.300.
В последнем источнике известие о смерти Давыда Ярославского ошибочно повторено
еще под 6821 г .
(Там же, с.299).
121. В одном из древнейших родословцев сказано, что Михаил «сел на уделе на Молозе» (БАН, 17.15.19, л.256об.)
122. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.84, 88-89, 102.
123.
ГИМ, Синод., № 667. Текст издан Н.И.Новиковым. - Древняя
российская вифлиофика. 2-е изд. М., 1788, ч.6, с.420-506. Следует иметь в виду,
что записи синодика, содержащие княжеские прозвища, сделаны не ранее 20-х годов
XVI в. Ср.: ГИМ, Синод., № 667,
л .62 (упоминание князя Ивана Даниловича Пенкова).
124. Никаких намеков на княжение Константина Федоровича в источниках нет (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.84). Предположение А.И.Марковича о правлении Константина в Ярославле не может быть подкреплено фактами (Маркович А.И. Ярославские князья в Московском государстве. - В кн.: Труды VII Археологического съезда. М., 1891, т.2, с.83).
125. НПЛ, с.351; ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.54.
126. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.53.
127.
При описании событий 1339 г . Иван Калита назван «тестем» Василия
Ярославского (НПЛ, с.350. О дате см.: Бережков Н.Г. Указ. соч., с.293). Имя
жены Василия Давыдовича, очевидно дочери Калиты, приводится в летописном
известии 1342 г .,
сообщающем о ее смерти: «преставися княгиня Овдотья Васильева Давыдовичя, князя
Ярославского» (ПСРЛ, т.18, с.94).
128. НПЛ, с.350.
129. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.52. В.А. Водов пишет о совместной поездке в Орду противников Москвы Александра Тверского, Василия Ярославского и Романа Белозерского, но источники, на которые он ссылается, разделяют поездки тверского князя и ярославского с белозерским (Vodoff V. A propos des «achats» (kupli) d'Ivan 1-er de Moscou. - Journal des savants. P., 1974, N 2, P.109).
130. НПЛ, с.352. А.В.Экземплярский полагал, вероятно под впечатлением свидетельств родословных книг о княжении Михаила на уделе в Мологе, что данное новгородское летописное известие имеет в виду не князя Михаила Давыдовича, сына Давыда Федоровича, а некоего боярина Михаила Давидовича, посланного великим князем в Торжок (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.104, примеч.310). Но, во-первых, в 40-х годах XIV в. не известен какой либо московский или великокняжеский боярин с таким именем и отчеством (см.: «Указатель имен» к кн. С.Б.Веселовского «Исследования по истории класса служилых землевладельцев» (М., 1969); во-вторых, текст Комиссионного списка Новгородской первой летописи младшего извода прямо говорит не о боярине, а о князе: «Михаила князя Давыдовиця».
131. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.56; т.18, с.95.
132. БАН, 17.15.19, л.256об.
133. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.110.
134. Там же, т.18, с.101; т.5, с.225; т.4, ч.1, вып.1, с.289.
135.
В 1362 г .
Василий Михайлович Кашинский выдал свою дочь «за Моложьскаго князя за сына за
Михайлова» (ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.73). Это уникальное известие Рогожского
летописца, до сих пор не привлекавшее к себе внимания исследователей, впервые
говорит о Моложском уделе Ярославского княжества в XIV в. Уже конструкция фразы
свидетельствует о том, что Мологой управлял не сам Михаил, а один из его
сыновей. Родословные росписи перечисляют сыновей Михаила Давыдовича в таком
порядке: Федор, Иван, Лев (Родословные книги, с.60, 151, 237-238). Едва ли это
перечисление точно соответствует времени рождения каждого из трех княжичей.
Федор поставлен на первое место, вероятно, только потому, что о нем в конце XV
- начале XVI в. твердо знали, что он владел Мологой, о князьях же Иване и Льве
в летописном и актовом материалах сведений не сохранилось. Есть ли основания
считать, что в 1362 г .
Мологой владел Федор и именно он стал зятем кашинского князя? Думается, это
маловероятно. Дело в том, что в 1398
г . Федор Моложский отдал свою дочь за Александра Ивановича
Тверского (См.: ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.165). Если бы Федор был женат на дочери
Василия Кашинского, его дочь приходилась бы троюродной теткой Александру
Тверскому. Такой брак по церковным канонам был бы невозможен (если, конечно,
дочь Федора Моложского не родилась от второго брака своего отца, но о втором
браке никаких известий нет). Поэтому следует думать, что на дочери Василия
Кашинского женился не Федор, а Иван или Лев. Выбор можно сделать на основании
косвенных данных. О единственном сыне князя Льва Михайловича, Андрее, известно,
что он служил тверскому великому князю Борису Александровичу (Родословные
книги, с.61, 152, 239). Связь князя Андрея Львовича с Тверью подсказывает, за
кого вышла замуж дочь Василия Кашинского. Очевидно, ее мужем стал Лев
Михайлович, который в 1362 г .
княжил в Мологе. А.В.Экземплярский полагал, что князь Лев умер в 1369 г ., но утверждение
исследователя построено на очень шатких основаниях (Экземплярский А.В. Указ.
соч., т.2, с.109, примеч.321). Несомненным кажется только то, что Лев умер
раньше своего брата Федора, которого, таким образом, следует признать
преемником Льва на моложском столе.
136. ПСРЛ, т.18, с.115-116.
137. БАН, 17.15.19, л.256об.
138. Там же, л.256об.-257об.; Родословные книги, с.55, 147, 232.
139. Маркович А.И. Указ. соч., с.85, 86; Мец Н.Д. Ярославские князья по нумизматическим данным. - СА, 1960, № 3, с.123-129; Лукьянов В.В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея. - Ярославский областной краеведческий музей. Краеведческие записки. Ярославль, 1958, вып.3. № 32, с.13 (запись о написании рукописи в 1391/92 г. «при благовернем великом князи Иване Васильевичи Ярославьском»). Запись была издана раньше И.И.Срезневским, но с опечаткой (Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV веков). 2-е изд. СПб., 1882, стб.271).
140. АСВР, т.3, с.500, пояснительное примеч. к акту № 220.
141. Там же, № 220, с.238.
142. Архив ЛОИИ, ф.12 (собрание П.М.Строева), оп.1, № 98. Филигрань бумаги, на которой написана грамота, pomme de pin, датируется 1461-1510 гг. - Briques С.М. Les filigranes. Amsterdam, 1968, v.3, N.2110, 2111; v.I, p.156-157.
143. Ср.: Шульгин В.С. Ярославское княжество в системе Русского централизованного государства в конце XV-первой половине XVI вв. - Научные доклады высшей школы. Исторические науки, 1958, № 4, с.11. Отнесение грамоты ярославским князьям Глебовичам и ее датировка 30- 40-ми годами XV в. неверны (АСВР, т.3, № 220, с.238).
144. Родословные книги, с.55, 147, 232.
145. АСВР, т.3, по «Указателю географических названий».
146. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.284, № 8391.
147. Так в рукописи, хотя речь должна идти о сельце.
148. ЦГАДА, ф.181, д.481, л.22об. На л.28об. указано, что сведения о вотчинах Толгского монастыря относятся к 1612/13 г.
149. АСВР, т.3, № 221, с.239.
150. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.18, № 455.
151. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6707, 6757.
152. АСВР, т.3, № 200, с.210.
153. Там же, по «Указателю географических названий».
154.
ЦГАДА, ф.281, № 14794, л .53об., 60об.
155. Там же, ф.1356, оп.1, д.6757; Ярославская губерния. Список населенных мест, с.37, № 925.
156. АСВР, т.1, № 138, с.106.
157. Там же, № 537, с.414 (упомянуты гилевские крестьяне).
158. Там же, с.629, комментарий к акту № 537.
159. См.: карта Ярославской области.
160.
ЦГАДА, ф.281, № 14794, л .50, 51об.
161. Там же, л.53.
162. АСВР, т.3, с.499, пояснительное примечание к акту № 200 и далее по «Указателю географических названий».
163. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6758.
164. АСВР, т.3, № 199, с.210.
165. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.27, № 693.
166. АСВР, т.3, № 217, с.233.
167. Согласно ярославским писцовым книгам 1626-1629 гг., острова Полник и Малой лежали «выше села Прусова середь Волги» (Исторические акты ярославского Спасского монастыря / Изд. Вахрамеев И.А. М., 1896, т.3, с.90). Село Прусово было расположено у Волги и отстояло на 16 верст от Ярославля (Ярославская губерния. Список населенных мест, с.24, № 324).
168. Исторические акты ярославского Спасского монастыря. М., 1896, т.1, № 31-32, с.39-41; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.1718.
169. Родословные книги, с.56, 147, 232.
170.
ЦГАДА, ф.1209, кн.549, л.267-310; ЦГВИА, ВУА, № 18197, л .9, 11-13.
171. АСВР, т.3, № 194, с.206.
172. Там же, по «Указателю географических названий». Ср.: Ярославская губерния. Список населенных мест, с.4, № 58
173. АСВР, т.3, № 212, с.226.
174. Там же, № 218, с.235.
175. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6758. С.Унемер показано близ правого берега р.Которосли, к северо-востоку от него - с.Вышеславское, а к юго-востоку - с.Ставотино. Ср.: Ярославская губерния. Список населенных мест, с.3, № 17 20; с.4, № 58.
176. БАН, 17.15.19, л.257; Родословные книги, с.55, 147, 232.
177. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6686.
178. Мец Н.Д. Указ. соч., с.129-131; БАН, Арх. Д.193, л.393; БАН, 17.15.19, л.256об. Следует отметить, что даже в древнейших списках родословных росписей ярославских князей князь Иван Васильевич не упоминается как предшественник своего брата Федора на собственно ярославском столе. Линия «больших» ярославских князей сведена только к Федору Васильевичу и его сыну Александру, что лишний раз подчеркивает неполноту и тенденциозность родословных росписей.
179. АСВР, т.3, № 263, с.281 и примеч.1 к акту № 263; № 272, с.286-287 (в обеих грамотах сказано, что перечисленными в них землями в свое время владел князь Федор Васильевич). Упомянутые в последний грамоте село Заднее, Соланбал и Заболотье отыскиваются на карте. Заднее село называлось также Егорьевским, а с.Заболотье - Богословским. Соланбал, или Сонбал, - название, связанное с р.Сонболкой, впадающей в р.Рубену, на восток от с.Заднего. К югу от этого села протекала р.Яхренга, впадавшая в р.Кихту и также упомянутая в грамоте (См.: ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.350). И.А.Голубцов не смог определить местоположения Заболотья и Соланбала и неверно отождествил Кубеницу (это р.Кубена, как следует из писцовых описаний 20-х годов XVII в. См.: Сторожев В.Н. Материалы для истории делопроизводства Поместного приказа по Вологодскому уезду в XVII веке. Пг., 1918, вып.2, с.9, 10) и Яхренгу (См.: АСВР, т.3, по «Указателю географических названий»).
180. АСВР, т.3, № 213, с.227.
181. Там же, с.228.
182. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6757.
183. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.112.
184. Там же, с.112, примеч.329.
185. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.177, № 5168.
186. Там же, с.188, № 5521.
187. О географии владений князей Согорских см. ниже, в части о Белозерском княжестве.
188. ДДГ, № 12, с.34.
189. Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.112 и примеч.330.
190.
ГБЛ, ф.304, № 677, л .69об. Список Жития датируется 1631 г .
191.
Ключевский В.О. Указ. соч., с.300. В тексте Жития говорится
о молитве за благочестивого царя и за благоверных князей (ГБЛ, ф.304, № 677, л .69). Упоминание царя,
бесспорно, свидетельствует о том, что памятник составлен после 1547 г .
191.
a. ГБЛ, ф.304, № 677, л .65об.
192. Ключевский В.О. Указ. соч., с.300: «в изложении он старался подражать Житию Дионисия Глушицкого, откуда почти дословно выписал предисловие».
193.
Ср.: «къ князю Димитрию, владущему округ езера великаго,
Кубаньскаго глаголемаго» (ГБЛ, ф.304, № 603, л .22об.); «...къ князю Дмитрею, владущему
округ езера великаго, рекомаго Кубенскаго» (ГБЛ, ф.310, № 1214, л .344).
194.
В тексте Жития упоминаются конкретные деревни (Горка,
Окулино, Лавы?), пожертвованные монастырю семьей князя Дмитрия Заозерского. -
ГБЛ, ф.304, № 677, л .66об.
195. Там же, л.66-67.
196. родословные книги, с.57, 149, 234.
197. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.XXXV, с.27, № 696.
198. Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости и ее прежних владельцах князьях Юхотских и Мстиславских. СПб., 1894, с.50.
199. Родословные книги, с.57, 149, 234.
200. АСВР, т.3, No 219, с.236.
201. Барсуков А.П. Указ. соч., с.3, 22, 32, 44.
202. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6749.
203.
Житие Иоасафа Каменского. - ГИМ, собр. Е.В.Барсова, № 139, л .806. - 9; Житие
Дионисия Глушипкого. - ГБЛ, ф.310, № 1214, л .344. Судя по Житию Дионисия Глушицкого,
князь Дмитрий Васильевич действовал в Заозерье в 1402 г .
204.
ГБЛ, ф.310, № 1214, л .344. Это село зафиксировано в Списках
населенных мест Вологодской губернии. - Вологодская губерния. Список населенных
мест. СПб., 1866, с.132, № 3831.
205.
А.В.Экземплярский считал Константина самым младшим,
третьим, сыном Глеба Васильевича (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.88,
99). Так и в одной из древних редакций родословных книг (ГБЛ, ф.256, № 348, л .42). Но в других
ранних редакциях тех же книг Константин поставлен вторым (ГБЛ, ф.256, № 349, л .115; Там же, ф.29, № 1512, л .42). Та же
неопределенность и в изданных книгах (Родословные книги, с.5, 8, 149, 234).
206. АСВР, т.З, № 191, с.205.
207. Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. М., 1896, т.2, с.75-77; т.3, с.86-87.
208. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.17, № 437, 438; с.18, № 447. Только Григорьевское стояло на безымянном ручье.
209. АСВР, т.3, № 221, с.239.
210. Ссылаясь на старожильцев, старцы Толгского монастыря говорили, что «жилци, господине, здешные были Шаховские». - Там же.
211. Там же.
212. Родословные книги, с.59, 150, 234.
213. Там же.
214. АСВР, т.3, № 221, с.239.
215. Там же, т.1, № 368, с.269.
216. Там же, с.617, комментарий к акту № 368.
217. Ср.: Там же, т.1, № 102, 103, 250. Именно на эти грамоты ссылался С.Б.Веселовский в комментарии к акту № 368. В двух первых грамотах упоминается пожня или пустошь Чевьское, название которой несколько похоже на наименование пожни Черевковской. Возможно, С.Б.Веселовский идентифицировал оба названия и, исходя из такого тождества, сделал свои заключетая, однако оба наименования смешивать нельзя. О происхождении топонима Чевьское см. ниже.
218. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.47, № 1126, 1129 (Д.Свечкино при р.Рыбинке).
219. ДДГ, № 89, с.356.
220. Любавский М.К. Указ. соч., карта.
221. АФЗ и Х, ч.1, № 248, с.212. В этом издании грамота ошибочно отнесена к 1493-1494 гг. Верная дата указана С.М.Каштановым (Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV-первой половины XVI века. М., 1967, с.24, примеч.51).
222. АФЗ и X, ч.1, с.344.
223. Родословные книги, с.58, 59, 149, 235.
224.
ЦГАДА, ф.281, № 14767; ф.1209, № 544, л .76об., № 550, л .215-216.
225. ДДГ, № 61, с.196; ср.: № 89, с.356.
226. Родословные книги, с.62, 152, 236 (в первых двух росписях Семен и Василий ошибочно названы Шаховскими вместо Шехонских).
227. АСВР, т.1, № 102, с.82; № 103, с.83.
228. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.269, № 7941, 7934, 7931, 7929, 7933.
229. Там же, с.270, № 7965. Эта зависимость топонима Чевьское от гидронима Чега делает совершенно невозможным смешение Чевьского с Черевковской, которое, видимо, допускал С.Б.Веселовский.
230. АСВР, т.1, № 109, с.83; ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.6730.
231.
Ср. сделанное выше предположение о причинах конфликта в 1339 г . между Иваном
Калитой, с одной стороны, и Василием Давидовичем Ярославским и Романом
Белозерским - с другой.
232. ПСРЛ, т.18, с.115; т.5, с.233; т.4, ч.1, вып.1, с.301.
233. ПСРЛ. СПб., 1863, т.15, стб.481.
234. Родословные книги, с.61,151,238.
235. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.111, № 3158 (с.Шуморово в восьми верстах от Мологи, у Волги); Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.111, примеч.328; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6630 (здесь показано с.Шуморово, но р.Шуморы нет).
236. АСВР, т.3, № 219, с.236.
237. Родословные книги, с.60,151,238.
238. Там же.
239. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.116, № 3330.
240. Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950, с.436-437.
241. родословные книги, с.60-61.
242.
А.В.Экземплярский, ссылаясь на Список населенных мест
Ярославской губернии, писал, что в его время существовали два села Прозоровых
(Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.110, примеч.325). Но в Списке указано
лишь одно Прозорово, именно Михайловское-Прозорово. Под № 3331 в Списке
отмечено с.Рождествино, или Рождественское, у Прозорова, которое
А.В.Экземплярский принял за второе Прозорово. Однако помета «у Прозорова» ясно
свидетельствует, что речь идет не о втором названии села, а о его
географической близости к Михайловскому-Прозорову. Ошибочность мнения
А.В.Экземплярского подтверждается не только приведенными сведениями Списка
населенных мест. В опубликованной П.А.Садиковым «зарядной мировой записи» 1563 г . князей Прозоровских
с властями Симонова монастыря, оставшейся неизвестной А.В.Экземплярскому, села
Прозорово и Рождественское различаются вполне четко, причем никакого второго
названия с.Рождественского не было (Садиков П.А. Указ. соч., с.437). Из
«записи» выясняется, что в с.Прозорове в XVI в. была церковь Михаила архангела
(Там же). Отсюда второе название Прозорова - Михайловское.
243. ДДГ, № 89, с.360. М.Н.Тихомиров предполагал, что Холопий городок упомянут уже в известном Списке русских городов дальних и ближних (Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних». - Ист. зап., 1952, вып.40, с.250). Однако в Списке назван не Холопий городок, а «на МолозЪ Городець» (НПЛ, с.477). При отсутствии в Списке упоминания столипы Моложского княжества г.Мологи этот Городец нужно связывать с самой Мологой, а не с Холопьим городком.
244. Садиков П.А. Указ. соч., с.436. Упомянутый здесь Старый Холопий городок («Старое Холопье») с церковью Бориса и Глеба зафиксирован и Списком населенных мест Ярославской губернии (Ярославская губерния. Список населенных мест, с.118, № 3384).
245. Копанев А.И. История землевладения Белозерского края XV-XVI вв. М.; Л., 1951, с.40, 169.
246. Петров П.Н. История родов русского дворянства. СПб., 1886, т.1, с.69.
247. Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895, вып.1, № 5, с.17.
248. Там же, с.15.
249. В частности, села Горинское и Перемут (Там же, с.14, 15). Эти поселения, а также с.Судка (Сутка) зафиксированы Списком населенных мест Ярославской губернии (Ярославская губерния. Список населенных мест, с.117, № 3332; с.118, № 3387; с.107, № 3025).
250. НПЛ, с.351.
251. Там же, с.386.
252. Там же, с.469.
253. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.52.
254. Псковские летописи. М.; Л., 1941, вып.1, с.16; М., 1955, вып.2, с.91.
255.
Ср. замечание А.Н.Насонова о том, что с 1323 г . в псковском
летописании нарастает материал, основанный на местных записях. - Насонов А.Н.
Из истории псковского летописания. - Ист. зап., 1946, вып.18, с.289.
256. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.111.
257. Там же, стб.140.
258.
Время смерти Василия Романовича неизвестно, но
исследователи почему-то считают, что он умер до 1380 г . и Федора Романовича
на белозерском столе сменил не Василий, а его сын Юрий (Экземплярский А.В.
Указ. соч., т.2, с.165; Копанев А.И. Указ. соч., с.40). Однако ввиду
неопределенности показаний источников приходится говорить как о вероятных
преемниках Федора Белозерского и о князе Василии, и о князе Юрии.
259. Копанев А.И. Указ. соч., с.34.
260. ДДГ, № 12, с.34.
261. Там же, с.35.
262. Дебольский В.В. Указ. соч., ч.1, с.33.
263. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.269, № 7942; с.270, № 7950.
264. Копанев А.И. Указ. соч., с.7,
265. Готье Ю.В. Указ. соч., с.395.
266. Ярославская губерния. Список населенных мест, с.218, № 6433; с.219, № 6442.
267. Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство. СПб., 1910, т.1, вып.2, прил., с.I-II; Копанев А.И. Указ. соч., с.739 и примеч.2; АСВР, т.2, № 46, с.31; № 113, с.70.
268. Любавский М.К. Указ. соч., с.77.
269. Там же; Копанев А.И. Указ. соч., с.7; карта 1, квадраты А6, А7, Б7.
270.
Копанев А.И. Указ. соч., с.111, карта 1, квадрат В7.
Рукинская слободка впервые упоминается в акте 1435-1447 гг., т.е. сравнительно
небольшое время спустя после духовной 1389 г . Дмитрия Донского (См.: АСВР, т.2, № 69,
с.44).
271. Копанев А.И. Указ. соч., с.7, и карта 1, квадрат К7.
272. Там же, с.109, карта 1, квадрат М7.
273. ПСРЛ, т.15, вып.1, стб.136.
274. Вне его контроля, например, осталась расположенная на р.Ковже, правом притоке Шексны, волость Ерга. - Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев, с.375-376; Копанев А.И. Указ. соч., карта 1, квадрат К9.
275.
ПСРЛ. СПб., 1853, т.6, с.108; т.4, ч.1, вып.2, с.358. Текст
восходит к своду 1423 г .
митрополита Фотия (Шахматов А.А. Указ. соч., с.157).
276. В подтверждение сказанного можно сослаться на две работы. Одна появилась, когда русская историческая наука делала свои первые шаги, другая - новейшая: Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1902, т.4, ч.1, стб.282; История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966, т.2, карта между с.96 и 97, где показано присоединение к Москве всего Белозерского княжества.
277.
Адрианова-Перетц В.П. Слово о житии и о преставлении
великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго. - ТОДРЛ. М.; Л., 1947, т.5,
с.81, 85-87. В.П.Адрианова-Перетц полагала, что Слово написано в первой
половине XV в., но после 1418
г . (Там же, с.91, 92).
278. Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. Л., 1976, с.113.
279.
ПСРЛ. М.; Л., 1962, т.27, с.257, 335, под 6897 г . «Великие» - описка
Погодинского списка № 1409 свода 1493
г . В остальных списках правильно читается «великое» (Там
же, с.257, вар.7).
280. Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.152.
281. АСВР, т.2, № 114, с.71; № 210, с.136; № 225, с.147; т.3, № 475, с.459 (упомянут «удел» князя Федора Давидовича Кемского). Нельзя поэтому согласиться с А.В.Экземплярским, утверждавшим, будто последним удельным белозерстсим князем был старший племянник Федора Романовича Белозерского Юрий Васильевич (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.165).
282. Ср.: АФЗ и X, ч.1, № 283, с.245 - жалованная грамота Михаила Андреевича Верейского и Белозерского митрополиту Геронтию на деревню Матуринскую в Череповецком стане, отданную «с судом и з данью и с всеми пошлинами». С передачей тех же прав жертвовали свои деревни в Кирилло-Белозерский монастырь и князья Карголомские.
283. Копанев А.И. Указ. соч., с.109.
284. Проявлением такого политического единства белозерских князей является командование Федором Романовичем всем белозерским войском в походах 1375 и 1380 гг.
285. ПСРЛ, т 24, с.228; БАН, Арх. Д.193, л.393об.; Родословные книги, с.231.
286. АСВР, т.2, № 3, с.16. Здесь упоминается белозерский наместник князь Юрий Васильевич, отчество которого говорит о существовании князя Василия. Это опровергает мнение А.В.Экземплярского, считавшего, что князь Василий Романович известен только по родословным книгам (Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.162, примеч.484; с.168).
287. ПСРЛ, т.24, с.228; БАН, Арх. Д.193, л.393об.
288. Родословные книги, с.231.
289. Петров П.Н. Указ. соч., т.1, с.108, 110.
290. Копанев А.И. Указ. соч., с.7, 39.
291. ПСРЛ, т.24, с.228; БАН, Арх. Д.193, л.393об.
292. Родословные книги, с.42.
293. Там же.
294. Там же, с.41.
295. Копанев А.И. Указ. соч., с.7, примеч.3.
296. Готье Ю.В. Указ. соч., с.395.
297. Ярославская губерния. Список населенных мест, с. XXXVII.
298. Там же, с.170, № 4915.
299. Родословные книги, с.41; АСВР, т.2, № 55, с.37.
300. Копанев А.И. Указ. соч., с.7, примеч.2; с.168-169.
301. АСВР, т.2, № 55, с.37.
302. Копанев А.И. Указ. соч., карта 1, квадрат М 10.
303. AGBP, т.2, № 137, с.81; № 156, с.93.
304. Петров П.Н. Указ. соч., т.1, с.110 (П.Н.Петров помещал Шелешпанскую волость в позднейшем Череповецком уезде, по течению р.Шексны, в ее левобережье); Копанев А.И. Указ. соч., с.7 и примеч.3 (по его мнению, Шелешпань была расположена «на южном течении р.Шексны»). Ср.: Экземплярский А.В. Указ. соч., т.2, с.168, примеч.499.
305. Копанев А.И. Указ. соч., с.39, 157; карта 1, квадраты Ж 5, 6; З 2, 3, 4, 5; И 3, 4.
306. АЮ, № 78, купчая 1525/26 г.; ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6673. Земли здесь принадлежали в свое время князю Семену Андреевичу Шелешпанскому - праправнуку Афанасия Шелешпанского (Родословные книги, с.42).
307. АЮ, № 147, разъезжая 1517/18 г.; ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.6673. По карте локализуются деревни Поляниново, Есипово и Сопутово, упоминаемые в разъезжей.
308. Там же.
309. АСВР, т.3, № 475, с.457-460. Описание отчин князей Кемских в XVI в. см.: Копанев А.И. Указ.соч., с.157-165.
310. В такой форме зафиксировано это прозвище-фамилия в документе XVI в. - АЮ, № 392; Родословные книги, с.43.
311.
АЮ, № 392, рядная 1542 г .
312. ЦГАДА, ф.1356, оп.1, д.6670, 6673.
313. Там же, ф.281, № 9700
314. АЮ, № 148, разъезжая 1518/19 г.
315. Там же, № 13, 105, 263.
316. Копанев А.И. Указ. соч., с.7, примеч.1; с.167, примеч.4.
317. Петров П.Н. Указ. соч., с.111; Копанев А.И. Указ. соч., с.39.
318. Копанев А.И. Указ. соч., с.165, примеч.3.
319. Дебольский Н.Н. Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря. - Вестник археологии и истории. СПб., 1910, вып.13, № 207, с.84; Ярославская губерния. Список населенных мест, с.180, № 5265, 5264; с.181, № 5288; с.180, № 5260; с.181, № 5269; с.180, № 5262, 5263; с.181, № 5270.
320. Копанев А.И. Указ. соч., с.166-167; Ярославская губерния. Список населенных мест, с.180, № 5255, 5257.
321. ЦГАДА, ф.1356, oп.1, д.6673.
322. АЮ, № 241, 242, 244; ЦГАДА, ф.281, № 9695, 9692, 9690, 9687, 9702; ф.1356, oп.1, д.6673.
323. Копанев А.И. Указ. соч., с.40.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ формирования государственной территории Северо-Восточной Руси на протяжении пятисотлетнего периода, момента ее возникновения и до времени, когда четко определилась роль Москвы в собирании русских земель, позволяет наметить узловые этапы ее развития и сделать некоторые выводы общего характера.
Превращение прежней родоплеменной территории Волго-Окского междуречья в государственную происходит примерно в конце IX - начале Х в., когда туда начинает проникать феодализирующаяся славянская знать и рядовое славянское население. Славяне основали здесь новые поселения (главное из них - Ростов), которые стали очагами феодального властвования. С образованием Древнерусского государства Ростовская земля стала частью его государственной территории. Это способствовало развитию здесь феодальных отношений, что привело к росту классовой борьбы. Под влиянием классовых столкновений в первой четверти XI в. происходит консолидация государственной территории на Северо-Востоке, ее административное деление становится более четким.
До второй четверти XII в. Ростовская земля сохраняет тесную
политическую связь с Киевом. И только после 1125 г . она превращается в
суверенное княжество. Столица ее перемещается в Суздаль. На протяжении первых
10-20 лет самостоятельного существования Суздальского княжества происходит
фиксация его границ с соседними русскими феодальными княжествами и землями:
Черниговом, Смоленском, Новгородом Великим. Усиливается процесс внутреннего
феодального освоения территории, результатом чего было строительство новых
городов - административных центров при Юрии Долгоруком. Этот же процесс
способствовал проявлению в 40-50-е годы XII в. первых признаков феодального
дробления Суздальского княжества.
Участие Юрия Долгорукого в борьбе за киевский стол, отвлечение сил на Юг тормозило расширение внешних границ Суздальщины. Положение изменилось с 60-х годов XII в., когда, ликвидировав попытки дробления земли между родичами, власть захватил Андрей Боголюбский. При нем территория княжества расширилась на восток и север за счет земель, контролировавшихся Волжской Булгарией. Таким образом, с конца второй трети XII в. началось то движение русской государственности и русского населения на восток, которое через пять столетий достигло Тихого океана. Расширение территории Владимирского княжества (Андрей Боголюбский перенес столицу из Суздаля во Владимир на Клязьме) в восточном и северном направлениях продолжалось и при его преемниках. В начале XIII в. эта территория охватывала громадные пространства от Оки на юге до Лаче-озера и верхнего течения Северной Двины на севере; от Зубцова и района Устюжны на западе до волжского Городца Радилова и Устюга на востоке.
Развитие социально-экономических отношений во Владимирском княжестве привело во втором десятилетии XIII в. к его распаду на ряд более мелких княжеств. К концу указанного десятилетия их насчитывалось семь. Главным стало великое княжество Владимирское, князь которого считался старшим среди других князей Северо-Восточной Руси и имел ряд особых прерогатив.
Монголо-татарское завоевание 1237-1239 гг. прервало внешний рост государственной территории Северо-Восточной Руси и внесло крупные перемены во внутреннее, исторически слагавшееся ее развитие. В последующие десятилетия XIII в. в результате ордынских нападений обезлюдела территория центра; Владимир, Переяславль, Суздаль, Юрьев и их округи. Население стало отходить на периферию старой Ростовской земли. Здесь возникает ряд новых княжеств: Тверское, Гадицко-Дмитровское, Костромское, Московское, Городецкое и Белозерское. В результате феодального дробления Владимирское великое княжество теряет значительную часть прежней территории и становится достоянием князей окраинных княжеств. В политическом отношении на первый план во второй половине XIII в. выдвигаются Тверь, Кострома, Городец и Москва.
В XIV в. в развитии территорий княжеств Северо-Восточной
Руси происходят два противоположных процесса. С одной стороны, усиливается
тенденция к объединению земель, что было связано с дальнейшим развитием
экономических и социальных отношений, в частности с изменениями внутри
господствующего класса, упрочением связи вассалов с сюзеренами. Центростремительная
тенденция выражается в расширении территории великого княжества Владимирского,
в стремлении тверских и московских князей, занимавших владимирский
великокняжеский стол, к увеличению своих владений путем приобретения сел в
других княжествах и даже к контролю над целыми княжествами в результате покупок
у ордынских ханов ярлыков на эти княжества. Тем не менее Орда оказывала сильное
противодействие этому процессу. В результате ее вмешательства в 1328 г . произошло деление
территории великого княжества Владимирского, а в 1341 г . было образовано
новое княжество с центром в Нижнем Новгороде. Но с начала 60-х годов XIV в.,
когда ясно обозначился политический упадок Орды, процесс консолидации
территорий па русском Северо-Востоке берет верх, и с 1362 г . земли великого
княжества Владимирского, Галицкого, Углицкого княжеств, часть Ростова, а
несколько ранее территория Дмитровского княжества становятся наследственным
достоянием московских князей.
С другой стороны, продолжается процесс феодального
дробления территорий княжеств. Однако он приобретает своеобразные черты.
Членение различных княжеств на уделы происходит таким образом, что учитывает
необходимость политического единства. Последнее достигалось выделением больших
территорий старшему князю и коллективным владением определенным княжеским домом
территорией своей столичной округи. И все же центростремительные тенденции в
большинстве княжеств так и не возобладали. С последней четверти XIV в., когда
ясно обозначились преимущества московского князя в объединении под своей
властью северо-восточных земель, развитие многих княжеств пошло по пути
возрастающего дробления территорий. К числу таких княжеств относятся
Стародубское, Ростовское, Ярославское, Моложское. Исключение составляют только
Тверское княжество, где ясно прослеживается тенденция к внутренней консолидации
территории, и до 1382 г .
- Нижегородское.
Распад сравнительно мелких княжеств на многочисленные уделы, судя по ряду признаков, был ускорен политическим давлением Москвы. Он серьезно облегчал московскому князю проведение своей объединительной политики. Консолидация к концу XIV в. значительной части территории Северо-Восточной Руси в руках одного князя и одной княжеской линии была громадным шагом вперед на пути создания единого Русского государства, освобождения от уз чужеземного ига и последующего суверенного национального развития. (См. карты).
КАРТЫ
Рис.1. Ростовская земля конца XI в.
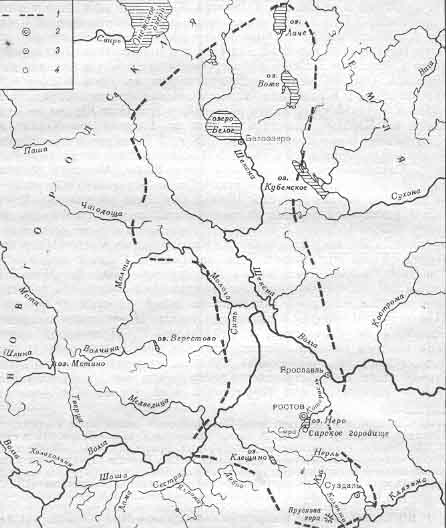
Рис.2. Суздальское княжество середины XII в.
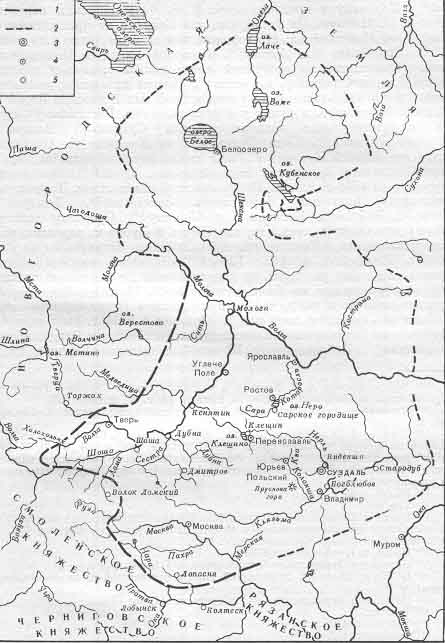
Рис.3.
Княжества Северо-Восточной Руси к
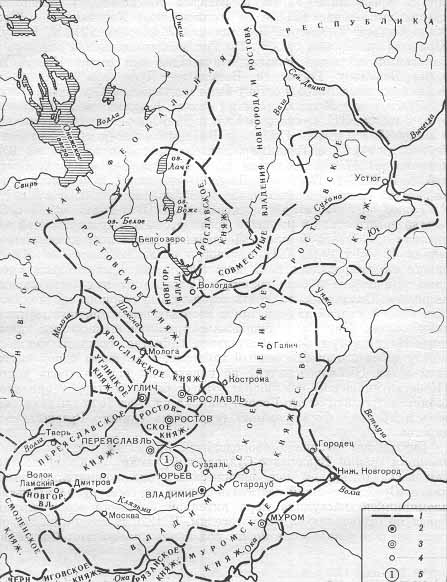
Рис.4. Княжества Северо-Восточной Руси в 70-е годы XIII в.

Рис.5.
Тверское великое княжество к

Рис.6.
Тверское великое княжество к
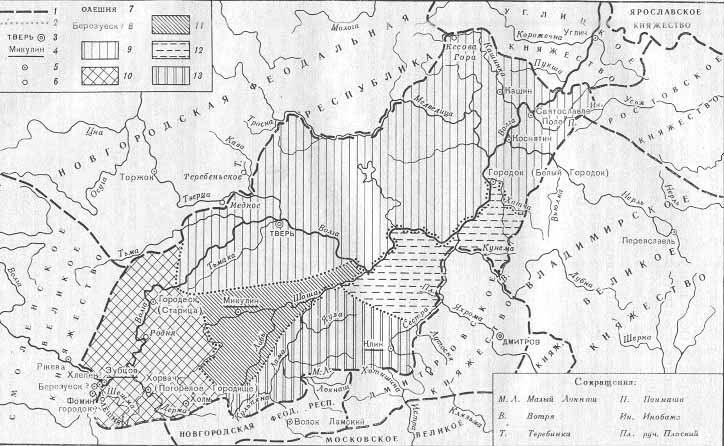
Рис.7. Нижегородское великое княжество в 60-е годы XIV.
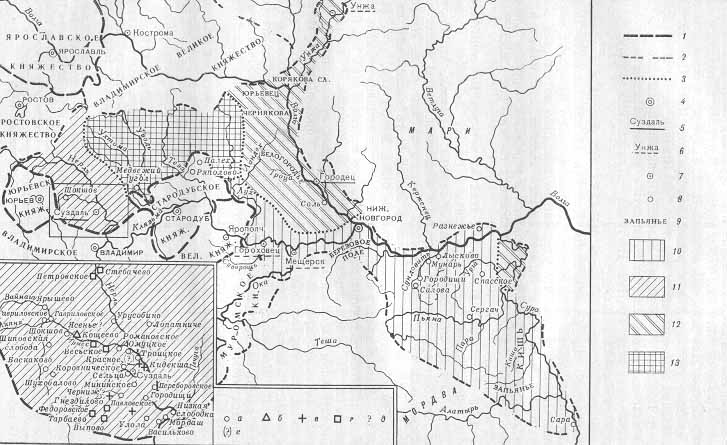
Рис.8.
Юрьевское княжество к
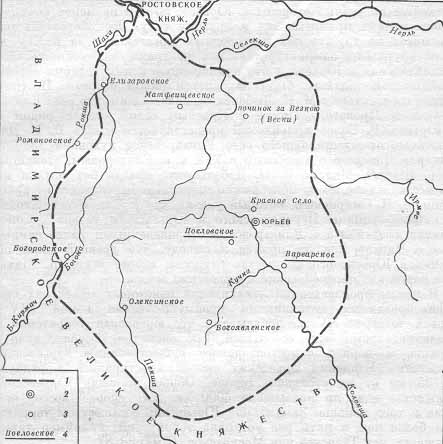
Рис.9. Стародубское княжество в конце XIV в.
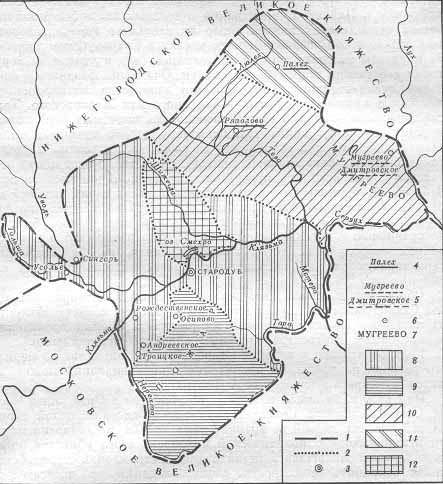
Рис.10. Ярославское княжество в начале XIV в.
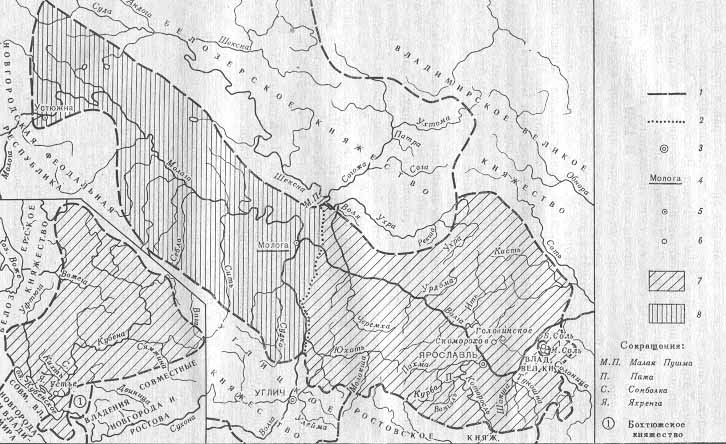
Рис.11. Ярославское княжество в конце XIV в.
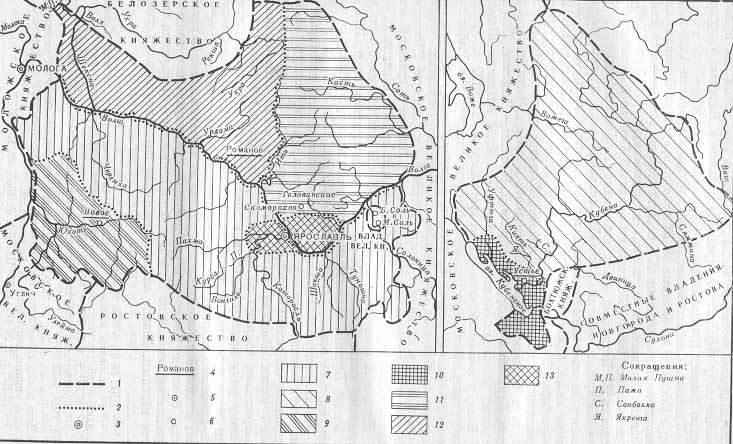
Рис.12. Белозерское княжество в XIV в.
Все материалы библиотеки охраняются авторским правом и являются интеллектуальной собственностью их авторов.
Все материалы библиотеки получены из общедоступных источников либо непосредственно от их авторов.
Размещение материалов в библиотеке является их цитированием в целях обеспечения сохранности и доступности научной информации, а не перепечаткой либо воспроизведением в какой-либо иной форме.
Любое использование материалов библиотеки без ссылки на их авторов, источники и библиотеку запрещено.
Запрещено использование материалов библиотеки в коммерческих целях.
Учредитель и хранитель библиотеки «РусАрх»,
академик Российской академии художеств
Сергей Вольфгангович Заграевский